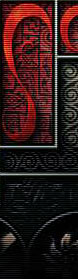
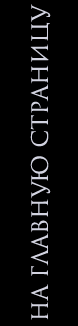




Александр Дугин
«Бытие и безумие»
Безумие как идентификационная граница человеческого
Известно, что человек определялся древними, античной
культурой как «мыслящее животное». Это утверждение есть у
Аристотеля, но, в принципе, пожалуй, во всей философской
мысли, в самых разнообразных культурах, мы встречаемся с
нюансированным, но аналогичным пониманием сущности и места
человека — «человек как разумное животное» или «мыслящее
животное».
В связи с этим определением возникают
следующие вопросы. — Если человек является разумным (или
мыслящим) животным, то где находятся границы человека? В какой
точке, у какой черты человек сталкивается с пределами своего
вида, своей самоидентичности, своего места в общем
космическом, историческом строе?
Эта критическая черта определяется двумя фундаментальными категориями — смерти как конца животного существования и безумия как конца существования разумного.
Для человека обладание разумом является специфической чертой и, безусловно, именно оно отделяет его от других видов существ (от животных). Поэтому если свою животную природу и, соответственно, смертность, человек делит с неопределенно большим количеством существ, то разумную, рациональную природу он считает уникальной, полагает (в современном мире, по меньшей мере), что не делит ее больше ни с кем, что это как раз и есть его уникальный «паспорт», его видовой идентификатор.
Таким образом, две границы человека как «разумного животного» неравнозначны. Смерть — это граница, с которой он сталкивается как животное, а безумие — предел, где он лишается собственно человеческого.
Следовательно, проблема границ человеческого теснейшим образом сопряжена с проблемой безумия как такового, поскольку именно при столкновении с чертой безумия человек подходит к ощутимым, четко осознаваемым границам себя как вида.
Проблема безумия как основной вопрос философии
Когда мы говорим о бытии, называя лекцию «Бытие и Безумие», мы, безусловно, соотносим это (волей или неволей) с человеческим пониманием бытия и с человеческим отношением к нему. И это отношение проходит через разум, через нашу рассудочную, разумную, сознательную деятельность.
Следовательно, вопрос о бытии в контексте безумия — это тоже вопрос, определенным образом связанный с сознанием, для человека вопрос о бытии не может быть поставлен вне сознания. А вот вопрос о безумии включает в себя и вопрос о бытии, и вопрос о человеке (антропологию), и вопрос о смерти, потому что смерть человека как разумного животного — это радикально иная вещь, нежели смерть любого другого вида животных, поскольку специфически человеческая смерть проходит через уникальную инстанцию этого вида — через инстанцию разума.
Говоря о безумии, и поднимая этот вопрос в качестве центральной темы для осмысления, размышления, мы, на самом деле, формулируем главный вопрос философии.
Многие мыслители пытались сформулировать, что такое философия, каков главный смысл философии, что является предметом ее изучения. Очень интересную интерпретацию дал этой проблеме современный онтолог, консервативный революционер Мартин Хайдеггер, сказав, что самым главным вопросом в философии является вопрос: «Почему есть нечто, а не ничто?» Очень глубокий, серьезный онтологический вопрос, но все же, на мой взгляд, это не самая общая форма выяснения глобального вопроса философии. То, с чего должна начинаться и к чему должна стремиться подлинная философская деятельность (обращенная к познанию корней бытия, мысли, идентичности различных экзистенциальных ансамблей, в этом бытии расположенных), является вопрос о бытии и безумии, или просто проблема безумия.
Вопрос о безумии или проблему безумия мы должны поставить в двух принципиально различных системах координат, выяснив, что такое безумие в парадигме Традиции (на языке Традиции) и в парадигме современности (на языке современности).
Что лежит в основе представления о разуме или о мудрости в Традиции? Как антитезу такому представлению мы сможем определить, безумие (или противомудрость, не мудрость, глупость и т.д.).
Здесь мы попадаем в довольно неожиданный интеллектуальный контекст, поскольку Традиция понимает разумность и ум совершенно иначе, нежели мы привыкли сегодня. Конечно, едва ли мы часто задумываемся, что такое разум, едва ли мы проводим серьезный критический анализ нашего мышления, осуществляя пристальную рефлексию (диакрисис), но, тем не менее, само общее преставление о том, что — «разумно», а что — «безумно» существует, и разделяется большинством современного человечества. Это представление имеет свои границы и свой генезис, проистекая из определенных, сплошь и рядом неосознаваемых, нерефлектируемых нами парадигмальных оснований, образующих в целом язык современности.
Разум в Традиции, «интеллективная рассеянность»
Разум, ум или мудрость в Традиции есть нечто радикально отличное от того, что мы понимаем под этим сегодня.
Сакральная Традиция в ее изначальном холистском (гиперборейском) аспекте не знает жестких не снимаемых оппозиций, доминации формальной логики (поскольку автономия формальной логики — это и есть главный признак языка современности), в ней отсутствует понятие «ничто» («ноль»), с которым оперирует рассудок, предоставленный самому себе. Разум на языке Традиции понимается отлично от рассудка.
В Традиции существуют блоки представлений, своего рода «единицы познания», которые выступают как символы или иероглифы. Иероглиф — это греческое понятие, дословно означающее «священнопись», «святопись», т.е. «священный знак». Символ — греческое слово, означающий «соединение», «приведение к единому». Язык Традиции основан на такой интеллектуальной операции, которая не разводит жестко понятия, вещи, созерцаемые реалии, но сводит их, скрепляет, помещает в некое общее поле. В наиболее архаических пластах Традиции, в соответствующих символических комплексах и просто в древних языках мы сталкиваемся преимущественно с такими синтетическими «квантами познания» и интеллектуальными аффирмациями. На этом «гиперборейском» уровне не существует, например, отдельного понятия или знака для обозначения мужчины и женщины, в разных ситуациях один символ может интерпретироваться или так или иначе. Так же обстоит дело с другими парами: «высокое» и «низкое», «большое» и «малое». Представить себе мышление в этих синтетических символических категориях — своего рода, «андрогинное мышление» — для современного человека крайне сложно, ведь в нашем понимании именно неспособность отделить мужчину от женщины, высокое от низкого, большое от малого как раз и представляется предельной формой глупости, безрассудства или безумия. Но вместе с тем, мгновенное холистское схватывание единства противоположностей и синтетическое снятие их различия в уникальной инстанции, которая выходит за пределы дискретного, разделенного существования вещей и существ, и составляет основные свойства ума, как понимает его Традиция.
Ум человека Традиции не знает, что такое только ночь или что такое только день. Также живое и мертвое в Традиции не разводятся абсолютным образом, поскольку внутри каждой жизни уже спит зародыш смерти, и каждая смерть дышит особым существованием, необязательно очевидным, но, тем не менее, присутствующим, поддающимся при определенных условиях фиксации и входящим в область опыта. Отсюда такие сочетания как «мертвая жизнь» (bios necros{1}) или «живая смерть».
В холистском языке Традиции, восприятие мира и бытия в мире никогда не подлежит четкой дистинкции, здесь никогда нет, строго говоря, какой-то одной конкретной вещи, четко отличной от какой-то другой конкретной вещи. Нельзя, конечно, утверждать, что человек Традиции не понимает разницы, например, между столом и стулом, он ее понимает, но одновременно иной стороной своего сознания видит сходство и близость этих вещей и, в конечном итоге, определенную взаимозаменяемость этих категорий — в истоке, в функции, в грядущем. Для него, в отличие от современного рассудочного человека тот факт, что стол есть только стол, а стул есть только стул, далеко не так очевиден. В каком-то особом ракурсе эти вещи могут поменяться местами. Можно, к примеру, залезть на стол и на нем посидеть, можно, наоборот, на стуле обедать. А есть народы, которые не знают ни стола, ни стула, и поэтому просто не способны оперировать с такими предметами: Человек Традиции, для которого и стол и стул являются предметами привычного обихода, тем не менее, постоянно хранит в своем сознании возможность утраты этого привычного знания, постановку себя в ситуацию того, кто не знает этих предметов. Четкая реальность стола и стула для него отсутствует, предметы видятся в некоторой дымке, в своего рода «прозрачном опьянении» (ebrezza lucida, по выражению Ю.Эволы). Иногда развитие такого качества — чрезмерная рассеянность внимания относительно дистинктных реальностей имманентного мира — приводит мудрецов к состоянию полного невнимания к практике бытовой жизни, что граничит с своеобразным проявлением «глупости». Но общая гносеологическая установка на «интеллективную рассеянность» присуща всем членам традиционного общества, хотя, естественно, в разной степени.
В качестве классического примера такой «интеллективной рассеянности» можно привести историю об одном суфийском шейхе, мусульманском «святом», который блестяще объяснял своим ученикам устройство мироздания, разгадывал самые невероятные тайны, давал султану идеальные (в том числе практические) советы как победить врагов и приумножить казну, и все это давало замечательные результаты в реальности. При этом он, в основном, занимался молитвами, повторением священных имен Аллаха, наблюдением звезд и т.д. Однажды мудрец пошел на базар в окружении учеников, объясняя им по ходу дела о тайных целительных свойствах персиков, дынь или винограда. Через год он опять туда засобирался, но не взял с собой кошелька. Тогда его ученики спросили: «а почему, о великий шейх, Вы не взяли с собой кошелька, если мы опять идем на базар»? Шейх ответил: «дело в том, что в прошлом году я случайно оставил свой кошелек у одного торговца пряностями, теперь я просто приду и скажу — отдай мой кошелек, я его забыл у тебя год назад, он отдаст, и мы на эти деньги купим то, что нам надо». Это пример, когда высшая мудрость граничит с тем, что обычное, рациональное сознание опознало бы как полный идиотизм... Такое безразличие, странная для нас слепота к бытовой логике или к бытовой предопределенности событий характеризует специфическое традиционное отношение людей к уму и мудрости.
Здесь возникает очень интересный момент, если таково представление Традиции о мудрости, что же тогда считается в Традиции «безумием», «глупостью»? В контексте холистского, сакрального мировоззрения четко развести эти понятия нам не удастся.
Для того, чтобы проиллюстрировать художественным примером, что такое сознание или разум в Традиции, которая отказывается строго отделять день от ночи, можно привести фрагмент из «Сезона в аду» Артюра Рембо. Там есть место, которые меня в свое время серьезно затронуло. Рембо там говорит:
«Ад — это, безусловно, то, что внизу. Небеса — то, что вверху».
И все. Этот пассаж показался мне настолько экстравагантным... Мы знаем, что Рембо — один из тех «святых безумцев», ясновидящих, который высказывал предельно парадоксальные вещи, и вдруг, среди абсолютно энигматических пассажей — Est-ellle alme, Entende comme brame sous les acacias..., Mon triste coeur..., H и т.д. — среди невероятной сложности образов, над которыми бьются уже много поколений философов, филологов и интерпретаторов, вдруг он высказывает в «Сезоне в аду» фразу: «Ад — внизу. Небеса — вверху». Я подумал, что в этой фразе заключается некий удивительный смысл, и в первую очередь я распознал в ней сомнение — сомнение в том, что дело обстоит именно так. Сомнение.
Я услышал в этом намек на какое-то страшное откровение, на чудовищное подозрение, которого достиг как высшего предела абсолютно честный метафизически, героически экспериментировавший со своей душой, с сердцем, с сознанием, с телом Артюр Рембо. Он приблизился к догадке о том, что, может быть, небо находится внизу, а сверху — не что иное, как ад. По крайней мере, одно подозрение о таком состоянии дел, безусловно, может ввергнуть человека в то, что называется самым классическим безумием. Уже в самой этой странной неопределенности Рембо намек на это явно прочитывается. Известно, что в юности он изучал герметизм, алхимию, и в данном случае я склонен видеть в этом странном, недооформленном, подразумеваемом сомнении дуновение гносеологического холизма, манифестационизма, в котором и рай, и ад, и небо, и инфернальные миры загадочным образом слиты между собой, тайно соприкасаются через обратную сторону вещей... Видимо, это дуновение и заставило гения Рембо усомниться в богословской, теологической и рационалистической их разделенности.
Когда мы хотим понять, что такое разум или мудрость, а также глупость и безумие в Традиции, полезнее всего обратиться к вопиющей иррациональности, которую являет собой герметическая, алхимическая традиция. Она поражает не только своей навязчиво абсурдистской энигматикой, но и постоянной апелляцией к некоей инстанции, которая называется по-немецки Alles in Allem, «все во всем», и благодаря которой каждая вещь может перейти в иную вещь как в «Метаморфозах» Овидия. Мудрость адептов состоит в том, чтобы видеть тонкие, неопределенные, алогичные трансформации и метаморфозы стихий, существ и вещей мира. В этом смысл таких выражений как ртуть мудрецов, камень философов, вода ученых. Естественно, «вода философов» в алхимии — это та вода, которая не мочит рук, «огонь мудрецов» не жжет ладоней, «камень ученых» является жидким, «пар алхимиков» — плотным и т.д. Принадлежащим к области «мудрости», «философии», «науки» алхимики называют то, что, в глазах профанов, представляется вопиющим насилием над здравым смыслом, над разумом. Герметическая традиция, наследуя древние парадигмы гиперборейского, изначального, тотально сакрального, холистского мировоззрения, ярко демонстрирует то, что понималось под «мудростью», «сознанием», «философией» — одним словом, под мыслительной деятельностью человека — в золотые времена расцвета и полновластия Традиции.
В алхимии и ее языке все крайне энигматично, противоречиво. Есть, однако, в этой области некоторые вещи, которые позволяют навести минимальный порядок в структуре герметической мысли. Так, алхимия утверждает, что есть два основополагающих принципа: ртуть (жидкий, пластичный принцип, основа субстанциализации) и сера (принцип, огненный, вертикальный, эссенциальный). Ртуть — женское начало. Сера — мужское начало. В юности я потратил много времени, пытаясь разложить и кодифицировать определенным образом с учетом дуализма «ртуть-сера» многочисленные герметические трактаты, которые я прочел в солидных количествах. В определенный момент после изучения Риплея, Фламмеля, Сандивогиуса, Тревизана, Иренея Филалета, Василия Валентина и Парацельса у меня все более или менее начало выстраиваться. Вдруг у Фулканелли я нашел место, которое меня поразило, опрокинув все, что мне казалось уже освоенным:
«Что есть наша ртуть, ртуть философов?» — спрашивает Фулканелли. — «Она есть не что иное, как белая сера».
В этот момент, видимо, произошло мгновенное осознание мной самой сути языка Традиции. — Я понял тогда, что меня лишают последней возможности кодифицировать дуально эти сложнейшие тексты, состоящие из одних загадок. Когда вы долго трудились, чтобы путем различных ухищрений разложить хотя бы на две составляющие сложнейший клубок герметических текстов, и уже приблизились к какой-то стройной картине, вдруг это у вас мгновенно забирают и говорят: «постойте, вы все неправильно поняли — на самом деле, мужчина есть женщина, женщина есть мужчина, а больше, впрочем, вы можете алхимией не заниматься, поскольку с таким подходом у вас ничего не получится!» Это было самое настоящее короткое замыкание. Однако после него мне многие вещи в герметизме и в Традиции вообще стали ясны. Но это было новое знание. В такие моменты короткого замыкания рассудка и происходит живой и прямой контакт с тем, что Традиция называет разумом.
В Традиции существует парадоксальное определение разума, часто в традиционалистских текстах мы встречаем такие выражения, как «мудрость идиотов» или docta ignorantia — «ученое невежество» (этот термин ввел Николай де Куза). Представление о том, что, на самом деле, мыслительный процесс сам по себе является очень сложным сочетанием безумия, нарочитой глупости, иррациональности с вполне позитивной ученостью, с конвенциональными упражнениями рассудка и логического мышления, составляет специфику отношения Традиции к разуму.
Приблизительно очертив ту зону, в которую Традиция (язык Традиции) помещает разум, можно, — с определенной долей условности, как того требует описанное нами отсутствие прямых пар оппозиций, — наметить и некоторую предварительную область, где в этом языке Традиции должна была бы находиться условная и асимметричная антитеза разуму — т.е. область безумия. Ведь в сакральных текстах мы подчас встречаемся с критикой «безумия». Например, в Псалмах пророка Давыда: «Сказал безумец в сердце своем, несть Бог».
Можно предложить схему, согласно которой Традиция визуализирует две инстанции или две формы познания. Одна из них разделяет вещи в дуальной и более сложной кодировке, основанной на развитии дуальности (если такого разделения не будет, человек просто не сможет существовать — не случайно у него двойственная система органов, двойная симметрия тела). Все в мире несет в себе некоторый дуальный код, Традиция его не игнорирует, и способность отделить одно от другого может являться на определенном уровне начальным представлением о разумности, одним из таких представлений. Но на языке Традиции — это очень ограниченная разумность, которая снимается через обращение к особой, второй инстанции познания, где дуальность исчезает. Итак, под разумностью Традиция понимает две разные интеллектуальные операции — операцию разделения и операцию соединения, при том, что первая рассматривается как нечто менее истинное, адекватное и глубокое, чем вторая.
Симметрично этому, можно выделить две взаимодополняющие (хотя внешне они взаимоисключают друг друга, но в Традиции никогда одно не исключает другого до конца) модели понимания безумия в Традиции.
С одной стороны, можно сказать, что есть священное безумие, которое и является прямой интуицией мира или реальности, предшествующей их (мира или реальности) разделению. Такое безумие традиционно считалось качеством пророков, святых, посвященных, высших сущностей. В регионах и напряжениях такого сверх-частного сверх-раздельного безумия, по учению Традиции, пребывают ангелические сущности, не способные и не желающие отделять одно от другого (поэтому ангелы и бесполы{2}), пребывая в мире, где вещи существуют вне дуального кода. А, с другой стороны, существует рассудок или низший разум, который при необходимости позволяет отделить одно от другого. Традиция утверждает между этими инстанциями не противоречие, но иерархическое соподчинение.
Вопрос о безумии в Традиции решается следующим образом: священное безумие выше разума, интуирование единого (которое предшествует дуальности) выше рациональной деятельности, рассудочного разведения пар и различения реальностей. Безумие — как священное безумие — нагружается положительным онтологическим значением, весом, оценивается положительно. Прямое схватывание абсолютно неочевидного (более того, противоположного нашему обычному рациональному и чувственному опыту), опрокидывающее рациональный опыт и открывающее совершенно неожиданные, молниеносные сферы, в Традиции ставится выше, чем последовательная и уравновешенная рациональная деятельность. Но поскольку мы говорили, что само определение разума или ума в Традиции имеет, в конечном счете, отношение к той же самой стихии священного безумия, то мы можем, вполне в духе герметического парадокса, назвать инстанцию сверхрационального восприятия «подлинным знанием» и «подлинной мудростью». А рассудочное восприятие мира в качестве дискретных реальностей частиц рассмотреть как глупость, как бессмысленную констатацию, как пустую игру с гносеологическими химерами, структурированными в дезонтологизированные системы формальной логики, как пародийное свойство глубоко заблуждающихся существ, находящихся в плену у автономных рационалистических или гносеологических иллюзий. В Традиции можно найти примеры, когда «мудростью», «умом» или просто «разумом» называется высшая синтетическая категория, а прямое следование за выводами автономизированного рассудка рассматривается как помешательство. В том же примере из Псалмов Давыда — «сказал безумец в сердце своем: несть Бог» — речь идет именно о том, что Бог неочевиден для рационального сознания и «безумец», по словам псалмопевца, тот, кто не способен увидеть трансцендентной, сверх-дуальной реальности, пережить ее онтологический вес, признать ее бытие, тот, кто опирается исключительно на данные рассудочной реальности; поэтому он назван безумцем. В другом случае пророк Давыд пишет о самом себе, что он воспринимался в глазах мира как безумец — «смеяхуся о мне сидящие во дворех и пояху о мне пиющие вино». В Псалме говорится, т.е. святой пророк и царь, следующий за тихим гласом божественной инспирации, воспринимается обывателями как глупец. Игнорирование имманентных ценностей, пророческая, смотрящая поверх рациональных моделей мудрость, безусловно, вызывает насмешки у обычных людей, которые «сидят во дворах», «пьют вино» — вино для них реально, дворы реальны, сиденья для них реальны, а царь Давыд этого всего не видит, не замечает, пребывает в совершенно иных видениях.
Таким образом, мы увидели, что можно интерпретировать сакральные сюжеты Традиции, касающиеся «ума» и «безумия», различным образом. Можно говорить о постановке безумия над рассудком, можно говорить о постановке традиционно понимаемого разума, мудрости над онтологическим неразумием и конечной нелепостью обычной рациональной деятельности.
Итак, священное безумие в Традиции поставлено выше профанического рассудка. Безумие — это полное, рассудок — частичное. Безумие — это все во всем, рассудок — это часть всего, причем часть, которая претендует на некоторую оторванность от всего, отход от всего, отчуждение. Так отчуждающе действует разум на воспринимаемые им вещи и понятия. И это, в конечном счете, не верно, говорит Традиция, это заблуждение, это не так, это идет против истины.
Гносеология Традиции как гносеология преодоления
Откуда проистекает валоризация, положительная оценка безумия в Традиции?
Она исходит из базовой установки Традиции, ее взгляда на человека, на мир как таковой. Напомню, что Традиция видит границы человеческого вида и, соответственно, его идентификацию как нечто, подлежащее преодолению. Ницшеанский тезис о том, что «человек есть нечто, что следует преодолеть», как нельзя более точно соответствует основному, базовому, изначальному взгляду Традиции на сущность человека. Мы видели, что безумие и есть та граница, которая очерчивает собой самоидентификацию вида. Таким образом, преодоление человека, — причем преодоление наиболее специфического в человеке, т.е. рассудка, — и есть, с точки зрения Традиции, высший императивный путь мудрости.
Следовательно, представление о ценности безумия, о центральности надчеловеческого безумия в Традиции является далеко не случайным, не второстепенным, не произвольным. Это выражение самой сути Традиции, самой сути того, как она понимает человека, как она понимает мир. Очерчивая границу человека, ограниченного как вид рассудком, тем, что он есть «разумное животное», Традиция, показывает оперативный вектор преодоления человеческого. Вот здесь кончается разум, вот кончается человек как «разумное животное», утверждает она, но здесь же начинается нечто иное — сферы сверхчеловеческой реализации, метаморфозы, многомерные и многоэтажные миры души, в которых существо оказывается за пределами человеческого рассудка. А значит, за пределом осознанной человеческим рассудком биологической смерти, по ту сторону этой биологической смерти — не только после нее, но и до рождения, вне физического существования и за пределами рационального существования, — все не кончается, не обрывается, но напротив, все только и начинается.
Представление о ценности безумия является золотым сечением Традиции, это основной метод, оперативная модель Традиции. Традиция начинается с того, что ставит безумие над разумом, размывает с помощью безумия рассудочные модели, и настаивает на том, чтобы человек — шире, любое мыслящее и немыслящее существо (но мы сейчас берем частный случай человека) — преодолел свои основные ограничения. Именно рассудочность Традиция рассматривает как основную ограничительную и, в последней онтологической перспективе, отрицательную характеристику человека. Соответственно, священное безумие выступает как всеобъемлющая положительная характеристика, но уже не только человека, а того, чем он должен быть и сквозь что он должен двигаться в своем высшем бытийном предназначении.
Традиция утверждает, что, когда мы имеем дело с человеком не в себе, безумцем, мы имеем дело не просто с расстроенным аппаратом, подчиняющимся какой-то смещенной, в сравнении с имманентной нормой, логике, мы имеем дело с чем-то другим, нежели человек. Отсюда возникает, например, православная концепция, что сквозь пророков глаголал Святой Дух, т.е. слова пророков, бормотания, стенания, слезы, их странные действия, не укладывающиеся ни в моральные, ни в рациональные рамки, интерпретируются сакральным, традиционным сознанием как действия сущности несравнимо более высокой, трансцендентной по отношению к человеку. Поэтому Дух истинный, животворящий, в православном символе веры, «глаголет пророки», то есть говорит сквозь пророков. Пророки, безумцы, юродивые служат инструментом духовного мира, несравнимо более объемного и многомерного, чем наш — мира, который плещет за пределами видовой, узкой специализации.
Здесь ключ к онтологии безумия. На самом деле, рассудок человека несводим к бытию, это лишь схема бытия. Безумие же (подчеркнем, что безумие это не просто отсутствие рассудка, это именно преодоление рассудка, выход за его пределы) есть выход за пределы схемы, прорыв в чистое бытие. Переходя от рассудка к безумию, мы переходим от вечной отчужденности, алиенированности, от бытия к прямому контакту и слиянию с ним.
Марксисты говорили, что главный вопрос философии: что первично — материя или сознание, бытие или сознание? С точки зрения безумия, мы выходим за рамки этой дуальности, причем практическим образом. — Мы переходим от представления о существовании в существование этого представления, от представления о мире в мир, от представления о бытии в само бытие. В этой уникальной операции, в этом рискованном и очень сложном, страшном, непредсказуемом и героическом опыте прохода сквозь ограничения вида человек впервые «ныряет» в саму ткань бытия, от которой он вечно и надежно защищен своими рациональными представлениями. Пока он остается в рамках мыслящего животного, разумного животного, он только мыслит о бытии. Когда он впадает в безумие, когда он перепрыгивает через этот барьер, когда он сметает видовую границу, он оказывается в совершенно неожиданном состоянии — он находится отныне внутри бытия, внутри ноуменальной реальности.
Так представляет себе Традиция безумие или проблему безумия, и здесь, конечно, наше сознание, наш обычный рассудок ставит перед нами довольно скользкие вопросы... Я думаю, у многих они уже созрели...
«Всякое ли безумие является священным? Любая ли потеря рассудка приводит нас сразу и напрямую к онтологии, к инициатическому бытию? Всякий ли человек, который совершит такое, ринется от рациональных моделей в бездну тотального неразумия, дойдет до конца? За всяким ли опытом помешательства стоит стремящаяся к рождению новая сущность, которая тайно подвигает человека к резкому разрыву ткани рассудка?»
На эти вопросы есть правильные ответы: конечно, не всякое безумие, не всякий человек, не всякий опыт... Но эти ответы — несмотря на то, что они правильные, и мы будем совершенно правы, если скажем, что есть разные виды безумия, что есть безумие высокое, а есть низкое — мгновенно снижают духовное напряжение рассматриваемой темы, аннулирует интенсивность познавательного и экзистенциального усилия, которое составляет смысл сегодняшней лекции. Поэтому я, предполагая такой вопрос, сделаю следующий ход — я отвечу на этот вопрос заведомо неправильно, т.е. я намеренно солгу. И, тем не менее, это будет важнее, чем если бы я ответил правду.
Итак, я отвечу следующим образом: всякое безумие всегда лучше всякой разумности, любой сумасшедший является более ценным членом космического ансамбля, чем любой несумасшедший. Теперь будет более или менее понятно, что я хочу сказать о ценности безумия в языке Традиции.
Рациоцентризм языка современности
Переходя к парадигме языка современности, мы оказываемся в системе координат, гносеологически и концептуально противоположной той, которую я только что описал, исследуя статус безумия в Традиции.
В современном мире, в парадигме языка современности все противоположно языку Традиции. Современный мир утверждает, что видовая ограниченность человека, идентификация его в качестве «разумного животного» являются не просто высшим утверждением онтологической истины, но и морально-этическим ценностным императивом. Иными словами, даже если человек не разумен или недостаточно разумен, он должен, обязан стать таковым.
Современный мир отрицает ту логику, которой руководствовались множество поколений наших предков, «гиперборейскую» логику, логику сакрального, холистского мировоззрения, где все существует во всем. Современный мир начал свое становление через модификацию холистского подхода под рациональный уровень человеческого мышления. И мы сейчас живем в современной цивилизации, в матрице языка современности, которая глубинным образом предопределяет наше поведение, влияя на нашу биологию вплоть до генного уровня. Наши родители воспитывают нас с младенчества, и даже зачинают нас, в состоянии гипноза языка современности, под чарами рассудочности (пускай, частичной, но ценностно выделенной), и именно в этом ключе осмысливают наше с вами появление на свет. Рационализм и современный мир пропитали наше бытие на уровне минеральных слоев, и мы едва ли можем помыслить себе наше бытие вне рамок парадигм современного мира.
Для того, чтобы понять, что существуют иные возможности мыслить, иные возможности быть, иные парадигмы в восприятии мира, реальности, радикально отличные от современных, надо произвести над собой колоссальное усилие. Чрезвычайно сложно даже представить себе, что то, что мы понимаем под разумом, есть не разум как таковой, а навязанная нам, неявно и глубоко внедренная гипнотическая установка... Весь контекст нашего существования, архитектура, социальные институты, лексика, быт — все базируется на определенных языковых установках современности, на конкретных гносеологических векторах, и связаны эти фундаментальные вектора с глубоко запрятанным представлением о том, что ограниченность человека своими видовыми качествами и, в первую очередь, рассудком (поскольку это «разумное животное») является высшей ценностью. А следовательно, эта граница — рассудок — является тем, что необходимо всячески утверждать, укреплять и развивать.
Откуда возникла такая контртрадиционная, антисакральная парадигма{3}?
Креационизм как прямая предпосылка рационализма
Об этом мы подробно говорили ранее. Отметим сейчас лишь то, что промежуточным элементом были некоторые версии креационистского, авраамического мышления — иудаистского, потом христианского и исламского{4}. Они заложили первые парадигматические предпосылки для развившегося позднее представления о том, что человеческая граница есть нечто непреодолимое, что человек есть только человек и не может стать никогда и ни при каких обстоятельствах никем, кроме себя.
В авраамических традициях есть элементы такого подхода, но, конечно, они не являются центральными, не доминируют нигде прямо. Это скорее потенциально заложенные возможности, последовательно развитые лишь в определенных направлениях экзегетики — в иудейском рационализме Маймонида и его последователей, позже в Хаскале, в некоторых исламских ересях (ранних — «хариджиты» и поздних — «ваххабизм», «салафизм»), в некоторых направлениях схоластики, особенно в номинализме, и в протестантизме.
Заметим по ходу дела, что проблема безумия (или отношения к сверхрациональному) является как раз одной из важнейших линий, по которой идет раздел между духом католичества и Православия. Православие всегда настаивало на ценности сверхрационального созерцания, которое ставилось выше рассудочного богословствования. Католичество, напротив, тяготело к тому, чтобы максимально подверстать (где это возможно) догматы церкви под формальную логику. Наиболее последовательно эта тенденция проявилась у номиналистов, которые предложили «не двоить сущности»... Это знаменитая кастрирующая бритва Оккама, отсекающая холистскую синтезирующую мудрость от дискретной рассудочности. Сущности необходимо было двоить, поскольку ни одна вещь не тождественна сама себе. Предложив рассмотреть вещь лишь как самотождество, номиналисты совершили колоссальный шаг в сторону парадигмы современного мира.
Отсюда мы логически приходим к Декарту, который утверждает скандальную, с точки зрения гносеологии и онтологии Традиции, нигилистическую фразу: cogito ergo sum — «я мыслю, следовательно, я существую». Если сказать, что существование или бытие человека является функцией от его мысли, или «следует» из его мысли (а здесь стоит ergo, т.е. «следует»), то, безусловно, на этом всякая полноценная онтология, всякая постановка вопроса о бытии вне рассудочных моделей просто аннулируется. Больше нет никакого бытия, есть только представление о бытии. Вся реальность подпадает под бремя, доминацию рациональных моделей. Далее переход от Декарта к Канту, неопозитивистам, затем Попперу и Хайеку — вопрос техники и развития изначальной установки на постановку онтологии в прямую зависимость от гносеологии, которая, в свою очередь, ограничивается областью рассудка. От возвышенных (в их изначальных догматических формулировках) предпосылок креационизма до нынешнего либерал-капиталистического, буржуазного сознания прослеживается прямая генеалогическая связь. По мере развертывания этой тенденции происходит уплотнение и абсолютизация рациональных границ человека, утверждается, что только рациональное является реальным, а следовательно, «ценным», «позитивным», «нормативным» и т.д.
«История безумия в классическую эпоху» (М.Фуко)
Каково место безумия в парадигме современного мира? Уже, наверное, понятно, оно является здесь абсолютно отрицательной категорией. И когда мы называем нашу лекцию «Бытие и Безумие», у нас возникает первая ассоциация с тем, что будет разговор о чем-то нехорошем, потому что безумие автоматически воспринимается как нечто отрицательное, опасное... Мало кто способен квалифицировать как нечто безумное свое поведение, свои мысли, свои поступки... Сама догадка о том, что человек становится безумным, доставляет невыносимое страдание... Отрицательными свойствами мы привыкли наделять только иных, нежели мы сами, осуществляя тем самым, постоянную «игру исключения».
Безумие в современном мире, основанном на парадигматическом утверждении абсолютного значения рассудка, описывает не только расстройство человеческого сознания, но и подразумевает «исчезновение бытия» (некое non cogito ergo non sum, т.е. «я не мыслю, следовательно, я не существую», или «я мыслю неупорядоченно, постоянно нарушая нормативы рассудочной деятельности, следовательно, я полусуществую, недосуществую»). Безумие в языке современности указывает на утрату бытия, а в моральных терминах — на зло.
Для подтверждения этого тезиса я хочу отослать вас к замечательной книге Мишеля Фуко (ученика и последователя Жоржа Батая) «История безумия в классическую эпоху»{5}. В книге подробно и доказательно развивается следующая идея: по мере секуляризации и десакрализации западно-европейского общества отношение к сумасшествию и сумасшедшим стало приравниваться к отношению к преступникам, грешникам, злодеям. Фуко показывает, что первыми сумасшедшими домами стали покинутые лепрозории, куда, по логике насильственной сегрегации и гигиенического апартеида, помещали больных чумой в Средневековье. Позже эти удивительно напоминающие концлагеря организации с суровым распорядком, тяжелыми телесными наказаниями, камерами пыток превращаются в госпитали (первые исторические государственные госпитали как раз и строятся на базе лепрозориев). Фуко показывает, что в эти госпитали-лепрозории, практически неотличимые от тюрем особо строгого режима, помещают следующие категории людей: либертинов, еретиков, свободомыслящих, диссидентов, сумасшедших и преступников. Фуко обнаружил поразительные вещи: в сохранившихся архивах этих госпиталей есть множество дел различных пациентов, из которых однозначно явствует, что критика нравов современного общества, акции политического протеста, даже в определенных случаях простая половая распущенность могли стать предлогом для заключения в полупенитенциарное-полулечебное заведение.
Далее, Фуко добирается до следующего любопытного обстоятельства: уже начиная с позднего Возрождения и особенно в эпоху Просвещения в западном сознании постепенно складывается устойчивое отождествление anoia («безумие», гр.) или stultitia («глупость», лат.) с корнем всех пороков. Отсюда сюжет многочисленных Narrenschiffe, «кораблей дураков», столь часто изображаемых в ту эпоху. Они, на самом деле, представляют собой некие моральные аллегории, иллюстрирующие то, что в основе различных пороков, болезненных, отрицательных, асоциальных, аморальных явлений лежит одно — глупость, безумие. Соответственно, отношение к сумасшедшим постепенно сливается с отношением к преступникам, более того, к носителям самого глубинного и фундаментального зла, предшествующего грехам и преступлениям. Так постепенно и плавно происходит фундаментальное для западной культуры, как показывает Мишель Фуко, отождествление безумия с высшим пороком. Этот процесс прогрессирует по мере того, как последние остатки сакрального мировоззрения в западной культуре растворяются, исчезают, и на заре буржуазного мира, когда свежий румяный капитализм входит в свои концептуальные, интеллектуальные, политические и социальные права, мы видим (и в католической части Европы, особенно в ходе Контрреформации и в кальвинистических, протестантских государствах) повсеместно утверждаемую точку зрения, что «безумные — это негодяи и преступники, которых Господь карает еще при жизни за их грехи». Безумный становится не просто несчастным, страдающим, обездоленным, но злым. Это связано не только с отношением к безумцам, но и с отношением к безумию, поскольку, как мы видели, безумие по своей гносеологической и онтологической семантике есть преодоление важнейшего идентификационного признака человеческого существа. Коль скоро современный мир строит свою аксиологию на рассудочности, безумие подпадает под моральное осуждение.
Книга Фуко показательна. Единственное замечание к ней — общее для западных авторов подразумевание, что история европейской культуры, европейского общества есть образцовая модель история культуры всего человечества. Если бы Фуко привлек для своего исследования тематику отношения к проблеме безумия в иных цивилизациях — как прошлых, так и существующих (но неевропейских), картина была бы намного более выпуклой и объемной. Но тогда бы существенно сузился простор для галльского остроумия, наслаждающегося нюансами рациональных оттенков... Замечательный русский и мыслитель Николай Николаевич Алексеев сделал в свое время аналогичное замечание о классическом труде юриста Кельсена. Он указал, что Кельсен назвав свою многотомную работу «Универсальной теорией права», уделил в ней всего три или четыре страницы правовым системам вне романо-германской цивилизации, вне римского права. Алексеев указывает, что в таких обобщениях проявляется фундаментальный бессознательный расизм всей европейской, западной мысли. Никаких претензий не возникло бы, назови он свою книгу «Теорией западноевропейского права», предоставив исследовать иные правовые модели другим авторам. И лишь результат сравнения всех правовых систем мог бы претендовать на «универсальность».
Заметим теперь следующее: рассудок сам по себе, как рациональная функция человеческого существа, является функцией представления, принципиально оторванной от автономной онтологии, отрицающей эту автономную внерассудочную онтологию. Соответственно, в становлении парадигмы современности можно проследить взаимосвязь между дезонтологизацией мысли, подробно описанной Хайдеггером, в качестве основы философского процесса на Западе в последние столетия, и дискредитацией безумия, исследованной Фуко.
Теперь можно обобщить представление о безумии в современном
мире. Современный мир рассматривает безумие как этический
негатив. Конечно, сегодня столь жесткое отождествление
завуалировано. Чистое, протестантское, парадигматически
буржуазное неприятие безумия в качестве морального зла почти
не встречается. Но, тем не менее, проблема безумия,
озабоченность, стремление исключить, преодолеть его,
избавиться от него, проявляется во всех нервных узлах
современности. Укажем лишь, на озабоченность проблемой
психиатрии в XX веке. Эта область стала чуть ли не самой
популярной методологией для объяснения человеческого бытия,
превратившись не только в обязательный инструмент философии,
но и став основанием для многих ее направлений. Роль в
философии и гуманитарной науке XX века психоанализа,
психологии глубин, просто психологии и т.д. огромна. Явная
одержимость проблемой безумия, стремление «излечить» человека
от рудиментов безумия, от «безумных структур», которые со всех
сторон (и извне и изнутри) угрожают сохранению его хрупкой
видовой идентичности, являются, безусловно, важнейшей
тенденцией в развитии западного сознания, западной культуры.
Эта озабоченность тем, чтобы разобрать, разложить,
проанализировать, эксплицировать, экстериоризировать, изучить
и, в конечном итоге, изгнать безумие путем особых, сложнейших
экзорцизмов (которые фрейдисты распознают как основное
содержание современной культуры), есть яркое выражение того
факта, что наш мир находится под неявной (но нормообразующей,
парадигмальной, взятой как основной этический императив)
доминацией рассудка.
Для корректности защищаемого нами
утверждения, следует упомянуть и об исключениях. Безусловно, в
контексте современного мира существовали некоторые явления,
которые исходили из иной парадигмы, внешне зашифрованной под
язык современности. Самые явные проявления этого — марксизм,
тьермондизм, фашизм, экологизм, новые левые, анархизм, новые
правые, различные тенденции нонконформизма в культуре и т.д.
Эти идеологии или эстетические направления были разобраны и
развенчаны наиболее последовательными либералами как
содержащие в себе базовый импульс иррационального, бредового,
идиотского, неразумного, нерационального в человеке. Эти
явления, таким образом, следует признать разновидностями
«подпольной деятельности», стратегиями по внедрению в поле
языка современности завуалированных и стилизованных фрагментов
языка Традиции. Поппер, фон Хайек, Раймон Арон, Норман Кон
своей кропотливой работой по очищению либерального,
рационалистического дискурса от напластований иррациональных
элементов, помогли выделить эти разнородные элементы в
отдельную причудливую область, помогая охватить совершенно
новую конфигурацию иррационального и отчасти традиционного в
парадигме современности, за что сторонники Традиции им весьма
признательны{6}.
Теперь несколько слов, касающихся «географии безумия», «географии рассудка» и «географии парадигматических языков». Подобно тому, как довольно точно можно проследить процесс пространственно-временного распространения языков (например, русского языка, немецкого, диалектов и т.д., учитывая эпохи и зоны влияния), можно локализовать с определенной степенью достоверности картину распространения парадигмального языка современности и, соответственно, вытеснения им языка Традиции. Этот процесс локализуем географически и исторически.
Мы видим, что современный мир, язык современного мира, утверждающий приоритет рассудочности над безумием, впервые зарождается на Западе (в Европе) вместе с распространением креационистского подхода, далее постепенно развивается в схоластике, номинализме, протестантизме, и, в конечном итоге, кристаллизуется окончательно в рационализме поствозрожденческой Европы. Исходя из этого, можно нарисовать карту того, как география рассудка расширяется за счет географии безумия. Выше я говорил — по поводу Кельсена и отчасти Фуко — про «бессознательный расизм» западного человека. Так вот, стремление представить локальный европейский историко-географический процесс эволюции парадигм как процесс абсолютный, универсальный и глобальный, является характерной чертой волюнтаристской экспансивной колониальной пропаганды западного мира и западной культуры. Особенно это отличает западный мир Нового времени, который не только внушает самому себе представления об императиве доминации рассудка над безумием, индивидуальной, рассудочной, человеческой системы надо всеми остальными, но описывает свою собственную парадигмальную историю и географию таким образом, чтобы всем остальным казалось, что это является универсальным эталоном, обобщающим исторический опыт всех «локальностей» или «месторазвитий» (как говорили евразийцы). Западный человек пытается представить дело так, будто речь идет не о соприкосновении одной парадигмальной реальности, имеющей конкретную пространственно-временную конфигурацию, с другой, более общей (и пространственно и исторически), в пределах которой и за счет которой изначально и постепенно распространяется новый язык, эволюционирующий поэтапно в законченный язык современного мира, но об абстрактной и универсальной стреле развития, дифференцированной лишь по количественному показателю скорости — в Европе процессы шли быстрее, вне Европы медленнее. Новый язык современности, с акцентом на рассудочности, интерпретировал язык Традиции, с акцентом на сверхрассудочности, исходя из абсолютизации своих собственных критериев, не оставляя у языка Традиции права на автономную логику, и следовательно, возможности симметрично интерпретировать язык современности в парадигме языка Традиции. Иными словами, мы имеем дело с хроникой и географией военных действий, где правом голоса наделена только одна сторона. При этом Европа, двигаясь к парадигме современности и доминации рассудка, парадигмально воевала и в хронологическом и в пространственном смыслах, отрицая и преодолевая как свое собственное прошлое, так и настоящее других культур, которые пребывали за пределами Европы. Отсюда можно сделать интересный вывод относительно объемов «географии безумия», которая распространяется на подавляющее большинство реальных человеческих существ, которые жили и живут на земле. Но гипнотическая сила, исходящая от маленького гносеологического «волдыря» Запада, настолько велика, что даже самый почвенный и традиционный австралийский абориген, который блестяще разбирается в сакральных кварцах, снах, духах, инициатических палочках в носу и т.д., попадая в зону современного супермаркета или съедая гамбургер, стремительно напитывается этим языком до самых минеральных корней. Существует какая-то молниеносная магия современности: чтобы она действовала, не обязательно одевать аборигена в костюм, повязывать галстук, рассказывать про Декарта, заставлять повторять «cogito ergo sum» — достаточно, чтобы он взял флажок Макдональдса и помахал им... И каким-то образом периферия, определенная часть его существования вовлекается в процесс этого языка современности, он внезапно оказывается в совершенно иной ценностной, гносеологической интерпретационной системе. Он становится чуждым самому себе, алиенируется, помещается вовне своего аборигенского я...
Благодаря ядовитой вирусной привязчивости создается впечатление, что парадигмальный язык современности (и соответственно, постановка рассудка над безумием) — это нечто само собой разумеющееся, всем понятное, всем присущее, и является процессом общего развития человечества во всех его аспектах и секторах. Эта подчас неявная девальвация традиционного мировоззрения, волюнтаристское прославление рассудочной парадигмы является важнейшим элементом пропаганды западной цивилизации, вплоть до того, что мы сами начинаем рассматривать нашу историю, наше настоящее и прошлое в этой парадигме, и тогда для нас осмысление нашей истории становится процессом избавления от национального безумия.
Из книги Фуко (хотя там ни слова не сказано про Россию) может сложиться впечатление, что и в России история психиатрических институтов была приблизительно такой же. Наверняка, если кто-то захочет написать нечто про «историю русского безумия в классическую эпоху», то первым позывом станет прямая проекция метода Фуко на нашу отечественную историю. Но из этого ничего не получится. Я попытался посмотреть историю психиатрических институтов, держа в уме исследование Фуко, но выяснилось, что у нас дело обстоит почти прямо противоположным образом.
Первое. Оказывается, в России дома для душевнобольных появились очень и очень поздно, только в девятнадцатом веке, в эпоху постклассическую. «Дома безумных» были созданы представителями романовского дворянства, той романо-германской элиты, которая часто даже не говорила по-русски и держала за идиотов не только тех людей, что специально помещались в спецучреждения, но все русское население. При Анне Иоанновне (т.е. еще в восемнадцатом веке), например, любой русский человек заведомо рассматривался как «законченный дебил», «идиот». Людей в русском платье в Санкт-Петербург в восемнадцатом веке просто не пускали, останавливали на заставе, почти как прокаженных. Всем вменялось ношение камзолов или чего-то «околоевропейского».
В целом «дома безумных» в России не пользовались большой популярностью, они в основном пустовали. Правда, иногда туда попадали довольно яркие персонажи.
Остановимся на одном случае. — Иван Яковлевич Корейша, знаменитый московский безумный, который называл себя «студентом холодных вод». Он красочно описан Достоевским в «Братьях Карамазовых».
Фуко показывает нам, что смысл дома для душевнобольных в Европе состоял в том, чтобы алиенировать (отчуждать), сегрегировать (отделять) и десакрализировать безумие, помещать его в специальный контекст, который воспринимался бы буржуазным гражданским сознанием западного человека как нечто низкое, греховное, недостойное, преступное. История с Корейшей демонстрирует нам, что русские «дома безумных» имели какое-то иное предназначение...
Когда неопрятного на вид юродивого Ивана Яковлевича Корейшу за какие-то проступки (он начал ни с того ни с сего палкой копать землю, истошно вопя, до этого кого-то, вроде, то ли ограбил, то ли просто стал надоедать местным властям) с огромным трудом посадили в психиатрическую лечебницу, его палата была почти тут же превращена в место паломничества. И это в девятнадцатом веке, обратите внимание, когда десакрализация безумия на Западе достигла своего пика и прошла его! Выходки Корейши были крайне странны: он плевался, мазал себя собственными экскрементами, выкрикивал богохульства, отплясывал, ел руками, приходящим обычно выкладывал на голову то, что не доел, бормотал невразумительные обрывочные фразы и т.д. Такое существование-беснование Корейши в психиатрической клинике притягивало немало людей, в частности, из высшего света. В России, оказывается, не только простые мещане и простолюдины поклонялись безумию, попадались и представители высшего света — даже князья и великие княжны. Не говоря уже об интеллигенции: туда ездил Достоевский, запечатлевший юродивого в своем романе.
Корейша раздавал иногда записочки бредового содержания. Последователи расшифровывали их, и они, как правило, сбывались и помогали.
Юродивый Корейша умирает от водянки, его тело лопается и превращается в гнойную отвратительную жижу. Эту жижу поклонники — а их было пол-Москвы — собирают на тряпочки, ватки, кружева, и кто глотает, кто продает, кто хранит, кто передает потомкам. Почти все излечиваются и находят счастье. Перед смертью Корейша гадил на песок, этот песок охранники стали потом продавать — говорят, он шел по баснословным ценам и обладал уникальными целебными свойствами. Но этим сакрализация юродивого безумца не заканчивается: когда подлинный песок от Корейши иссякает, охранники начинают гадить на песок сами, и это тоже продают... И самое интересное, что и этот песок оказывается целебным! Дух Ивана Яковлевича Корейши оказывается настолько силен, что преодолевает хищную логику мошенничества охранников...
Еще один любопытный момент, который много говорит о нашей национальной психологии: когда Иван Яковлевич умер, на место его был приведен другой безумный. Это уже в принципе ни в какие рамки не лезет: представляете себе такую историю во Франции — к одному дураку ходили на поклонение, но когда он умер, нашли другого? Это при том, что, если у Ивана Яковлевича что-то иногда исполнялось (и то условно, поскольку его предсказания было сложно идентифицировать), то у второго просто ничего не сбывалось: его записочки не имели никакой силы. Тем не менее, хотя поклонение ему было не столь масштабным, народ не иссякал чуть ли не до революции 17-го года, когда всех выпустили и началась совсем другая история.
В качестве иллюстрации я прочту описание похорон Корейши автором Ставронским в «Очерках Москвы»:
«В продолжении пяти дней в его состояние отслужено более двухсот панихид. Псалтырь читали монашенки и от усердия некоторые дамы покойника беспрестанно обкладывали ватой и брали ее назад с чувством благотворения. Вату эту даже продавали. Овес играл такую же роль. Цветы, которыми был убран гроб, расхватаны вмиг. Некоторые изуверы, по уверениям многих, отгрызли даже щепки от гроба. Бабы провожали гроб воем и причитанием — «На кого ты нас, батюшка, сироти-и-инушек», — это слово пелось и тянулось таким тоном, что звенело в ушах, — «оставил, кто нас без тебя от всяких бед спасет...»{7}.
Теперь вот вслушайтесь:
«...кто на ум-разум наставит, батюшка?».
Внимание, сказано именно так: «на ум-разум...» Вот ключ к глубинному пониманию ума-разума в русской культуре. «На ум-разум наставит...» И это об идиоте, бормотавшем «без працы не бенды коллалацы», а на вопрос, что случится с рабом Александром, отвечавшем «Александрос Львос Филиппа Висилавсу Македону урбсу»: Силен ум-разум.
Любопытно, что описана эта история и многие другие истории про русских дур и дураков в книге некоего Прыжова{8}. Автор сам по себе интересный. Прыжов насмехается над народной «дикостью». Сам он — революционер-разночинец, человек рациональный, хотя и пьяница. Девятнадцатый век, светскость, мода на все западное, прогрессивное... Национальная среда видится ему чем-то диким. Он бродит по кабакам и записывает московские истории про нищих, кликуш, безумных. Начав с иронии, он, кажется, настолько «втянулся», что за внешне рациональными насмешками сквозит уже какое-то настоящее понимание глубинного величия нашей страны и нашего народа. Тот же самый Прыжов становится потом членом «Черного Передела», знакомится с Нечаевым и убивает знаменитого студента Иванова. Начал с того, что посмеивался над «студентом холодных вод», Иваном Яковлевичем Корейшей, а кончил тем, что убил студента Иванова.
Любопытно, что у Прыжова выделена одна закономерность: в самой России география безумия тоже имеет определенную дифференциацию. Показательны некоторые совпадения. Прыжов задается вопросом: где территориально сосредоточено больше всего юродивых, идиотов, трясущихся, кликуш, вопящих, нищих, прикидывающихся или реальных, экстравагантных алкоголиков в последней стадии и т.д.? Иными словами, какова география того, что он воспринимает как «темное наследие древних, неизжитых комплексов»? Прыжов приходит к выводу, что столицей безумия является не Петербург, а Москва, и в Москве силовые линии юродства концентрируются вокруг Рогожского кладбища и, шире, Замоскворечья (замечу, что это Рогожское кладбище — центр всероссийского старообрядчества). Ареал наиболее интенсивного распространения кликушества, безумства, юродства, агрессивного нищенства лежит к северу, северо-востоку, частично к северо-западу от Москвы, идет на убыль и постепенно исчезает в направлении юга и запада. В Малороссии, отмечает Прыжов, безумных, кликуш и юродивых очень мало, почти нет вообще, а если и появлялись, то из Москвы; один раз в Киев явилась целая организованная процессия московских дураков и дур.
Эта география внутрироссийского безумия логично накладывается на чисто геополитические модели евразийства, признающие именно за великороссами (чьей колыбелью является Москва и северо-восточные регионы) статус ядра уникальной русской цивилизации, а Малороссию рассматривающие как территорию проникновения на Русь западных — католических, униатских и, в целом, европейско-рационалистических влияний и парадигм.
Этажи священного безумия и современная физическая теория «суперструн»
Теперь обратимся, для разнообразия, к совершенно иной области — к современной науке и, конкретно, к современной физике. В последние десятилетия произошли колоссальные изменения на уровне глубинных парадигм. Сегодня особенно перспективной областью является так называемая «теория суперструн». Мне ее основные положения любезно объяснил выдающийся молодой физик-теоретик Дмитрий Поляков, чей отец, знаменитый академик Поляков, является одним из ее разработчиков и создателей.
Если излагать в самом грубом приближении, то дело обстоит так. — Наше четырехмерное энштейновское пространство (трехмерное эвклидово плюс ось времени) в определенных своих аспектах порождает неснимаемые противоречия, отраженные в тупиковых физико-математических уравнениях и иных моделях физических антиномий, вскрытых современной естественной наукой. Эти кусты нерешаемых проблем разнородны и разнообразны. Разработчики общей теории вещества, квантовой механики и общей теории относительности (М.Грин, Дж.Шварц, Дж.Шерк, А.Замолодчиков, А.Белявин, А.М.Поляков, Й.Намбу, Д.Олайв, Т.Калуц, О.Кляйн, Д.А.Поляков, О.Тоофт и т.д.) постепенно подошли к гипотетической картине, где основные противоречия снимались. Так возникла «теория суперструн». Строго говоря, это описывается так:
«Эта теория исходит из наблюдения, что многие противоречия теоретической физики (в частности, наличие тахиона, необеспеченная стабильность вакуума — пространства-времени) снимается при обращении к суперсимметрии (т.е. к симметрии между бозонами и фермионами). К привычным 4-м измерениям пространственно-временного континуума добавляются еще 6, которые восстанавливают (на квантовом уровне) общую ковариантность на «мировом листе». Этот принцип лежит в основе «теории суперструн».
В таком десятимерном пространстве существуют «суперструны» (замкнутые и разомкнутые), которые образуют «мировой лист», некую десятимерную континуальность. Этот «мировой лист» калибруется с помощью т.н. «духов Фаддеева-Попова», которые представляют собой умозрительную шкалу, делающую измерения возможными.
Десятимерие переходит в наш осязаемый 4-мерный континуум путем компактификации, оставшиеся 6 измерений как бы свертываются, присутствуя латентно и невнятно для наших органов чувств и измерительных приборов.»{9}.
Это не научная фантастика, это просто модель объяснения реальности. Иными словами, если мы выстроим десятипространственное измерение. — Теоретически легко представимая модель, а математически это описать совершенно несложно, — то мы получим ясно функционирующую, логичную, простейшую схему, которая начинает усложняться по мере сведения десятипространственной модели к четырехмерному миру. В этом — нашем — мире, в мире, данном нам в ощущениях, остальные измерения соприсутствуют в свернутом виде, как бесконечно малые элементы. Поскольку они бесконечно малы, мы ими пренебрегаем, но, на самом деле, они существуют и при определенных операциях могут быть извлечены. Тот факт, что эти шесть измерений у нас отсутствуют, что имманентно мы не можем их воспринять, создает в нашем мире парадоксальные процессы, которые не укладываются в постулаты обычной физико-математической модели. Благодаря такому допущению специалисты по теории струн легко преодолевают границы, в которые уперлась классическая квантовая механика, теория частиц, теория гравитации и т.д.
Поскольку все же эти шесть измерений существуют лишь виртуально и их как бы «нет», то мы имеем дело с асимметричной картиной мира, в которой наличествует энтропия, справедлив второй закон термодинамики и т.д. Но стоит «добавить» эти измерения, пусть теоретически, и мы получим абсолютно непротиворечивую картину, а все парадоксы четырехмерности исчезнут.
Эта модель очень напоминает то, как соотносятся структуры священного безумия со структурой рассудка. Наш рассудок — представляет собой набор гносеологических измерений. Наш рассудок воспринимает только эту модель, которая вписывается в его изначальные, базовые, рассудочные парадигмы. Эти парадигмы ограничены системой разомкнутых цепей, складывающихся по лекалам формальной логики: противоположности там никогда не совпадают, а тождество не может предполагать одновременно инаковости. На локальных сетях рассудочных умозаключений формальная логика работает безотказно, но в некоторых критических узлах дает сбой и порождает антиномии. Священное безумие (или «мудрость идиотов», или docta ignorantia — «ученое невежество» Николая де Кузы) в таком случае может быть уподоблено полноценной «суперструнной» модели, дополняющей структуры рассудка до непротиворечивой холистской полноты, где противоречия совпадают. Оно, это священное безумие, таящее в себе сверхрассудочные измерения, снимает своим виртуальным бытием тупики рассудка.
Теперь обратим внимание на следующий момент: утверждение рассудочности над безумием как основная черта парадигмы современного мира отнюдь не обязательно приведет к рациональному результату. Более того, наиболее адекватными в области рассудочности предстают именно локальные частичные упражнения формальной логики, не претендующие на обобщения и избегающие касаться предельных областей. Поэтому мы часто сталкиваемся с парадоксом: самые последовательные рационалисты (такие как Витгенштейн, например) заканчивают полным хаосом, апелляцией к обскурантизму и вульгарной мистике. Это вполне естественно, так как при отсутствии обобщающего и иррационального начала, некоторой «безумной мечты» или «безумной идеи», рационально работающий (но по частям) механизм сбивается, теряет курс, становится чем-то очень странным, противоречивым, абсурдным. Можно сказать, как один из персонажей Достоевского: «начинаю с абсолютной свободы и заканчиваю абсолютным рабством»... Вроде все логично по частям, но в целом получается странно...
В области мировоззрения, наиболее последовательные либеральные, позитивистские мыслители как самые рафинированные выразители парадигмы современного мира, начинают с апологии позитивного рассудка и приходят к полной неспособности с помощью только этого рассудка создать хоть сколько-нибудь рассудочную, рациональную модель. Начинают с рассудка, а приходят к иррациональности и прозрачным мистификациям типа «невидимой руки рынка», «политкорректности» или «прав человека».
Две стратегии гносеологической войны
Изложенные в лекции тезисы подводят нас к возможности двух различных стратегий апологии Традиции и свойственной ей гносеологической ориентации на священное безумие (сакральную мудрость).
Первую стратегию можно определить как «защитную». Смысл ее сводится к тому, чтобы повсеместно настаивать: мол, парадигма современного мира и парадигма Традиции равнозначны и равноправны, обе имеют основания существовать и сосуществовать без уточнения иерархических пропорций. Они, например, несоизмеримы. Существует «западный язык», «парадигма современности», и существует «незападный язык», «парадигма Традиции». Точно так же есть сознание современного европейца со своими моделями, и сознание латино-американского индейца, который живет в сельве и оперирует с совершенно иными гносеологическими механизмами и системами смыслов. В такой стратегии мы ставим цель уравнять оба подхода в правах. Мы должны объяснить, что постановка рассудка над безумием — это понятно, приемлемо, как выбор, как привычка, как преемственность определенной культуры. Но это не универсальная истина, а всего-навсего отличительная черта западно-европейской культуры. Возьмем, к примеру, француза. Для него рассудок выше безумия, он так привык и иначе не может, будет трудно. И это вполне нормально, даже замечательно. Пусть он так и живет и делает, что захочет. Но возьмем теперь русского человека. Для него (в тайне, по крайней мере) куда естественней постановка мудрого и ироничного всепонимающего безумия над осколочным и пустопорожним рассудком. Французу надо при этом объяснить, что la chose russe, res russica это другое — не то, что плохо или недоразвито, просто другое... И пусть француз оставит русского человека в покое с его сказками, фольклором, юмором, непредсказуемостью, быстрой ездой, с его историей, предоставив полное право жить в тех парадигмах, в которых он всегда жил и с которыми расставаться не собирается. Это же верно не только в отношении русского человека, но и любого евроазиата, африканца, индейца, китайца, индуса, араба или тихоокеанца — любого неевропейца, любого, кто не стремится эмигрировать на Запад, спокойно живет у себя. Ведь пребывая в своих собственных лабиринтах сознания (хаотических, многомерных или немногомерных), в своих границах, и утверждая в них верховенство безумия над рассудочностью, такой человек поступает именно как ответственное и свободное — рациональное! — существо, осуществляющее свой исторический, национальный, духовный, культурный и цивилизационный выбор, а не как цирковой морж-недоучка.
Это очень важная защитная линия обороны Традиции. Двигаясь в этом направлении, полезно и остроумно сравнивать между собой какие-нибудь работы классиков западной культуры с рисунками дикаря или шизофреника, находя там и там относительные достоинства и недостатки; изучать наряду с Кантом ментальные конструкции, активируемые в период камлания у тувинского шамана или логику мифа аборигенов Австралии. Уже одно только представление о сущностной равнозначности, сопоставимости различных культур, подчеркнутый мультикультурализм будет большим достижением. В такой ситуации можно было бы поставить безумие, по меньшей мере, на один уровень с рассудком. А в наших условиях тотального наступления парадигмы современности уже одно это было бы серьезных успехом.
Интересно, что даже в самой современной западной культуре, несмотря на доминацию рассудочных парадигм, есть тенденции обосновать право на инаковость, право на иной цивилизационный и культурный уклад у тех народов, которые живут вне географической и исторической реальности современного Запада. Здесь большую положительную роль сыграли исследования Леви-Стросса, неоструктуралисты, новые левые, новые правые и т.д. Более того, если мы внимательней присмотримся к самой западной культуре, созданной западными людьми, то значительная — если не большая — ее часть окажется продуктом духа, осененного, скорее, священным безумием, чем холодной рассудочностью. Западную культуру ковали те, у кого из глубин психики прорывался архаический дух, более или менее завуалированный внешней обязательной рассудочностью — Джордано Бруно и Фридрих Ницше, Хайдеггер и Маркс более репрезентативны даже для Запада, нежели Адам Смитт, Поппер и Витгенштейн, которые, по большому счету, собственно в культуре вообще никакого следа не оставили... Если присмотреться внимательней, то их высказывания предельно банальны, тексты не зажигательны и не интересны, призывы лишены энергии, их декомпозиция холистских мифов и критика «священного безумия» крайне скучна. Общая установка Запада на доминацию рассудка над безумием настолько никого не вдохновляет, даже самих западных людей (ведь и у них остались какие-то живые нити внутри — Ницше говорил по этому поводу: «В каждом сердце есть стремление выше»), что западная культура несет в себе множество блистательных иррациональных черт. И эти черты (если мы внимательно посмотрим, кто конкретно привносил в культурные ансамбли Запада вкус жизни) оказываются сплошь и рядом творением тех, кто не только интересовался внеевропейскими культурами, мифами, религиями, обычаями и преданиями (или европейскими древностями дорассудочного периода), но и мировоззренчески, идеологически и философски. противостоял магистральным тенденциям, побеждающим на Западе. Современная западная культура по большей части создана антизападными или антисовременными людьми.
Например, «новые левые» сознательно создавали свою философию и культуру как антитезу буржуазному mainstream. Их неприязнь к традиции Запада, в которой они различали лишь предпосылки «постылого настоящего», сочетались в определенных случаях с симпатией к архаическим культам и религиям Востока.
Про «новых правых» и говорить не приходится: вся их философия есть отрицание парадигмы современности.
Особенно яркими представителями этой «оборонной» стратегии были Мирча Элиаде и Карл Густав Юнг. Они сделали невероятно много для уравнивания в правах современной и несовременной (предсовременной или просто незападной) ментальности.
Но есть и второй путь, который можно определить как «императив великого безумия». Это путь консервативно-революционный. Помимо уравнивания этих моделей важно, чтобы в тайном центре, в генеральном штабе эсхатологической реставрации пребывало некоторое сверхнасыщенное ядро, которое — вообще уже ни на что не обращая внимания — утверждало бы во всех параметрах, во всех измерениях (включая шесть компактифицированных) примат великого безумия над рассудком, правоту этого безумия во всех случаях, поддерживая все его проявления, включая самые радикальные, во всех точках этого пространственно-временного континуума, с какими оно приходило бы в соприкосновение. На этом уровне позиция не ограничивалось бы уравниванием парадигм, но утверждалось бы то, что утверждали самые радикальные и последовательные традиционалисты (Генон, Эвола) и последовательные и радикальные революционеры (Андрей Платонов, Владимир Ильич Ленин), настаивавшие — каждый по-своему — что, на самом деле, безумие должно воцариться здесь и сейчас, что путь торжества рассудка есть неправомочная узурпация, отчуждение, несправедливость, и, в конечном счете, не что иное, как зло. Это зло, конечно, не абсолютно, поскольку вписано в общий холистский план бытия, но все-таки зло, требующее определенных пенитенциарных мер.
Не Западу следует распространять свое жалкое по сути, но внешне гипнотическое мировоззрение на весь мир, а мы, евразийцы, должны окружить Запад, локализовать Запад как процесс, обнести его колючей проволокой альтернативной гносеологии, поставив на пути распространения его парадигмы непреодолимые границы, чтобы он довольствовался самим собой, поучая и наставляя самого себя, а не лез бы со своим уставом в мир, где колесо не катится, печь ездит, а ружье, повешенное на стену, стреляет само собой — в русский мир, в мир Евразии, в мир подавляющего большинства населения планеты... Потому что — если говорить откровенно — почти все люди в мире (и жившие ранее, и живущие сейчас), конечно же, были и есть глубоко безумны. И западные люди безумны тоже. Они просто не знают об этом, боятся этого, не хотят признаться в этом себе и другим... Но бояться не стоит, надо открыть глаза и идти в эту удивительную сферу спокойно, свободно и достойно, как положено человеку, который тяготится и неистовствует от своей видовой границы, устает от своей собственной идентичности, от своей человечности и хочет стать чем-то большим, хочет прорваться любой ценой к бытию.
Примечания
{ 1 } См. А.Дугин «Русская
Вещь», М., 2001, глава «Мертвая Жизнь». >>
{ 2 } Единственный ангел, который обладает
половыми признаками, является падший ангел, сатана. Кстати, во
многих легендах дьявол описывается не просто обладающим
половыми признаками, но бифаллическим существом, что еще раз
подчеркивает связь этой падшей ангелической сущности с
дуальностью. Также с осознанием дуальности перволюдьми
сопряжен и библейский сюжет грехопадения. Плоды дуального
древа познания Добра и Зла, дьявол, обвившийся вокруг ствола и
соблазняющий праматерь Евву, рождение стыда и влечения из-за
вкушения запретного плода — весь этот сюжет призван
подчеркнуть негативные стороны автономизации дуального кода и
принципа рассудочности. >>
{ 3 } Подробно эта тема разобрана в кн.:
Р.Генон «Кризис современного мира», М.,1992 и А.Дугин
«Эволюция парадигмальных оснований науки», М., 2002. >>
{ 4 } Подробно см. А.Дугин «Эволюция
парадигмальных оснований науки», ук. соч., «Метафизика Благой
Вести», ук. соч., предыдущие лекции, «Сатана и проблема
предшествования», «Онтология воскресения», «Смерть как
язык» и т.д. >>
{ 5 } М.Фуко
«История безумия в классическую эпоху», М., 1997. >>
{ 6 } См. А.Дугин «Эволюция научных парадигм»,
ук. соч., «Русская Вещь», указ. соч. >>
{ 7 } Прыжов И.Г. «Двадцать шесть Московских
Лже-пророков, Лже-юродивых, Дур и Дураков», М., 1864. >>
{ 8 } Указ. соч. >>
{ 9 } А.Дугин «Эволюция парадигмальных
оснований науки», ук. соч. >>