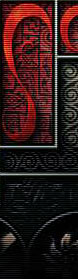
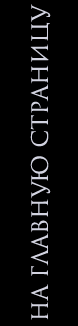




Александр Дугин
«Онтология Воскресения»
Тема Воскресения в гиперборейском ансамбле
Тематика Воскресения играет центральную роль в христианской традиции. Это основа и центр Православия. Но прежде чем подойти к этой тематике, и к роли и значению Воскресения в христианской традиции, обратимся к внехристианскому контексту, попытаемся отыскать там аналоги, — воззрения, доктрины, учения, — которые могут иметь определенное сходство с проблематикой Воскресения.
Первая часть лекции посвящена теме воскресения в гиперборейском ансамбле. С самого начала деятельности Нового Университета мы руководствовались принципом применения определенных моделей структурной лингвистики к изучению традиционализма. Напомню, что главной методологической основой рассмотрения всех вопросов в Новом Университете является сопоставление-противопоставление двух фундаментальных понятий: языка Традиции и языка современности. Этому посвящалось большинство предшествующих лекций и, соответственно, контекст изложения доктрины Воскресения будет тоже ориентирован на это различие.
Напомню, что язык Традиции изначально существует в виде гиперборейской теории. Собственно говоря, язык Традиции помимо общих метафизических установок имеет и некоторую более строгую, нюансированную и конкретизированную модель. Ближе всего к языку Традиции в наиболее чистом, наиболее архаическом виде стоит концепция Германа Вирта с его реставрацией изначального арктического гиперборейского языка. Поэтому обратимся к языку Традиции в его гиперборейском изводе (в реконструкции Германа Вирта) применительно к пониманию времени, смерти, возрождения, цикла, пространства и поищем в этом ансамбле ту сферу, тот сектор, который может быть интерпретирован близко к сюжету Воскресения.
В основе гиперборейского языка Традиции лежит простейший знак (рис.1). Это круг с центром, разомкнутый в самой нижней точке.
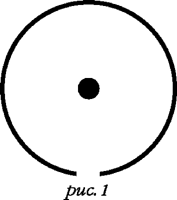
Это одновременно и первоикона (первосимвол, первоиероглиф) и первокалендарь и матрица реального языка, из которого складываются звуки, буквы древнейшего изначального протоязыка человечества (Die Heilige Urschprache der Menschheit, как озаглавлена главная книга Германа Вирта).
Этот великий знак показывает не только устройство года и его соответствующих сезонов, но и устройство бытия. С точки зрения изначального языка гиперборейцев, бытие и год — понятия однопорядковые, поскольку бытие манифестирует себя через год, пространство манифестирует себя через иероглиф года, и поэтому временно-пространственный комплекс сходится в первокалендаре, в первознаке и, соответственно, лежит в основе дальнейших интерпретаций как природных явлений, так и движений человеческого и нечеловеческого духа. Во всем сакральном космосе, на разных его этажах существует взаимосвязь между различными его уровнями — природными, субъективными, духовными, материальными, все структурируется в единой сакральной парадигме.
Точка Воскресения — в рамках гиперборейского календаря и гиперборейского иероглифа — является точкой Великого Юла, зимнего солнцестояния или нового года. Здесь происходит самое уникальное явление всего символического года. Движение между летом и зимой представляется естественным (например, падает камень и очевидно, что без помощи рук человеческих, он просто валится, падает сам по себе). Солнце клонится к осени, к зиме, и вопрос, почему происходит увядание, смерть, с очевидностью понятен сакральному человеческому сознанию. Но когда бытие достигает смерти, точки своего зимнего солнцестояния? Что происходит в этот момент? — Происходит таинство Рождения, таинство поднятия нового Солнца, таинство проявления некой дополнительной, отсутствующей на периферии года силы, которая подает с той (трансцендентной) стороны некий таинственный импульс, и возникает новая жизнь, новое Солнце, новый год. Таинство происходит в точке разрыва постепенности. Здесь, в точке Великого Юла, в зимнем солнцестоянии осуществляется та мистерия, которая лежит в основе сакрального мировоззрения гиперборейцев. Это точка была точкой самого главного праздника, главной мистерией изначального человечества. Это праздник праздников. Здесь-то и происходит Воскрешение и Воскресение. Год, солнце, человеческая жизнь нисходят к смерти и в какой-то момент, после того, как они преодолевают онтологическую синкопу, некий загадочный разрыв в ткани временного процесса, все снова появляется, восстанавливается, воскрешается с обратной стороны года, и возникает новая жизнь, новое рождение, новое бытие, новое солнце.
С точки зрения гиперборейского комплекса, Воскресение есть явление, присущее бытию. Бытие не может существовать без того, чтобы не воскресать в первые дни нового года после достижения определенной точки и чтобы затем не развиваться, а потом снова не угасать вплоть до смерти.
Так, с помощью этой простейшей модели, видит арктическая традиция все явления мира — и искусственные и естественные, жизни людей, циклы человеческой истории, развитие цивилизаций, годовой круг вращения солнца. Этот цикл может быть огромным (как прецессионные циклы, смещение точки весеннего равноденствия относительно Зодиака), а может быть совсем крошечным, и даже однодневки, существа, которые живут очень короткий промежуток времени, успевают за краткий период своего существования пройти основные этапы циклического развития — родиться, достигнуть зрелости, умереть и возродиться снова.
Можно сказать, что в гиперборейском языке существуют представления об имманентности Воскресения, о том, что Воскресение является таинственным двигателем, который заложен в самый центр реальности и который дает о себе знать в момент, когда естественное, внешнее, периферийное развитие кругового процесса существа (цивилизации, животного, ангелов) доходит до низшей точки. Здесь случается нечто, что заново выталкивает это существо (вещь) к новому циклу существования. Этот важнейший момент года и лежит в основе гиперборейской концепции Воскресения.
Что на самом деле происходит здесь, и почему то, что падает или умирает, вдруг воскресает, и то, что лежит, поднимается, и то, что теряет силу, наоборот начинает движение в обратном направлении? Это считается священной загадкой, поскольку объяснить это явление исходя из логики самого круга невозможно. А раз так, то внимание акцентируется на уникальности точки Великого Юла в общегодовом движении. Иными словами, если мы находимся в рамках периферии, в логике периферии, если мы отождествляем наше внимание, наше восприятие с внешним существованием, то есть с потоком времени, в котором живем, понять или даже схватить этого элемента мы не можем. Мы можем фиксировать едва-едва наше рождение, потом соответственно прожить весело жизнь и на пороге, когда она походит к своему концу, зафиксировать, что скоро все это прекратится. Существа, погруженные во время, шире, природные или духовные процессы, неотделимые от длительности и вовлеченные в процесс длительности, принципиально не могут схватить — находясь внутри этой периферии — то, что происходит в этот миг разрыва. Формально можно сказать: вот здесь все заканчивается и здесь же все начинается, но внимание обычного существа в этот момент полностью исчезает, он не помнит, что было в предшествующем и не помнит, был ли он, поскольку специфика цикла такова, что он фиксирует только то, что лежит на внешнем круге, а то, что лежит вне его, не поддается восприятию. Точка Великого Юла проходит в состоянии беспамятства, человек не помнит, что с ним было до рождения, и он неясно представляет себе, что ждет его после смерти.
Концепция имманентного Воскресения — при том, что относительно его причины не делается никаких серьезных утверждений — характеризует те традиции, которые можно причислить к традициям манифестационистского типа, рассматривающим принцип мира (божественный исток) и сам мир как некое однородное явление и не делающим фундаментальной разницы между творцом и творением. Божество открывает себя — это весна, божество скрывает себя — это зима. Индуистская традиция, которая говорит о множественности кальп, о днях и ночах Брамы, принадлежит к классическому типу индоевропейской манифестационистской традиции. По пути метаморфоз самое малое достигает самого большого, и наоборот. Такова циклическая картина манифестационистских религий.
Тематика Воскресения в манифестационистских традициях, в принципе, совпадает с сюжетами рождения или перерождения, трансмиграции (отдельного рождения в них нет, всякое рождение есть воз-рождение, перерождение). Поскольку в манифестационистском комплексе все взаимосвязано, необходимо, чтобы существо рождалось, умирало и появлялось заново. Той революционной нагрузки, которую тематика Воскресения несет в христианстве, в манифестационистских традициях нет, так как, по большому счету, в этих традициях все равным образом чудесно, поскольку за всем стоит непосредственное присутствие божества, и любая мельчайшая деталь является высшим чудом. С другой стороны, самые невероятные чудеса являются обычным делом, грань между нормой и ненормальностью, между тем, что может быть, и тем, чего не может быть, размыта, условна. Поэтому эти традиции рассматривают процесс проявления чисто циклически. Циклы, которые постоянно возникают, не имеют особой иерархии, каждый цикл в целом равнозначен другому.
Как не может быть только одного существования, так не может быть только одной смерти, постоянно идет пульсация — вдох и выдох — космического божества.
Вместе с тем, если внимательно посмотреть на индуистскую или буддистскую традиции, в которых тоже есть представление о циклах, о колесе сансары, постоянном циклическом функционировании кругов бытия, там мы увидим определенный зазор. Пульсирующий ритм космоса в определенный момент достигает критической точки, и возникает выбор между двумя путями: «путем предков» (питрияна) и «путем богов» (дэваяна).
Считается, что люди, которые идут «путем богов», после смерти, т.е. после достижения своего «зимнего солнцестояния» (как особые существа, которые предпринимали определенные усилия для этого — на этом основана в рамках индуизма специальная практика умирания) выходят из ритма цикла постоянного проявления и исчезновения и движутся отныне в некотором особом онтологическом направлении, которое невозможно описать в терминах длительности, циклических представлений. «Путь богов» ведет прочь от постоянного ритма исчезновения и возрождения, прочь от кругов сансары. Кроме этого «элитарного» пути, пути высшего существа, есть более распространенный, обычный путь — путь предков (питрияна), спокойное функционирование в кругах проявления-исчезновения. Когда существо, идущее по «пути предков», умирает его душа передвигается в подлунный мир. Потом из подлунного мира она получает тело элементов и вновь манифестируется.
Согласно Генону, эта манифестация не может состояться повторно в человеческом мире, поскольку миров так много, что очутиться в одном и том же мире невероятно. Существуют лишь аналогичные человеческому миры (так называемые миры манава), в которых «предки», двигаясь по спиралям бытия, пульсируют, исчезая в одном месте и появляясь в другом.
Таким образом, при более нюансированном подходе к проблематике посмертной судьбы даже в рамках такой строго манифестационистской традиции, как индуизм, мы можем увидеть определенное различие в посмертной судьбе людей. Концепция «воскресения» приобретает здесь двойственный характер. Одна из форм «воскресения» может быть героической, божественной, может повлечь человека по пути богов (это считается самым положительным вариантом). Вторая форма — просто «перевоплощение», тоже связанное с «воскресением», но оценивающееся в индуизме невысоко, и даже с некоторым пренебрежением. При этом нужно сказать, что ведическая традиция настолько многомерна, что этический подход при ее изучении просто неприемлем. В ней нигде вы не найдете (разве что только в интерпретации европейских традиционалистов, типа Эволы) утверждений, что «путь предков» несостоятелен. Оба пути рассматриваются как совершенно естественные, вписанные в логику бытия, мира.
Нужно подчеркнуть, что разделение на два посмертных пути (питрияна и дэваяна) — все же довольно позднее и, в некотором смысле, искусственное построение. Согласно самым архаическим палео-ведическим моделям, древнейшее индоевропейское сознание рассматривало путь дэваяна лишь как весеннюю дугу, как подъем Солнца после зимнего солнцестояния. А путь питрияна, «путь предков» — как осеннюю дугу. Речь здесь шла, как всегда в гиперборейском ансамбле (о чем мы уже неоднократно говорили), не о жестком этическом противопоставлении «добра» и «зла», «хорошего» и «плохого», но о некоем взаимодополняющем комплексе элементов, которые едва ли уместно жестко противопоставить. В путях дэваяна и питрияна точка зимнего солнцестояния, где размыкается год, имеет различное значение: посмертный «путь богов» предполагает в ней разрыв с прежним уровнем бытия, резкое изменение (повышение) онтологического статуса существа; «путь предков», напротив, подчеркивает непрерывность цикла.
Несмотря на то, что разделение между «путем богов» и «путем предков» существует, на «гиперборейском» уровне языка (на языке Традиции в его наиболее чистой форме) не делается и не может делаться жесткого и последовательного различия между типами имманентного «воскресения». В данном случае появление и воскресение описываются идентичными терминами. Эта идентичность при описании Великого Юла для нас очень важна, поскольку в дальнейшем мы можем проанализировать ту или иную традицию, и увидим, что к любым формам — считающимся и более низкими и более высокими — применяется одна и та же символическая языковая модель. Для каждого фрагмента реальности парадигма воскрешения будет общей и универсально применимой.
В манифестационистском, циклическом представлении нет идеи однонаправленного, поступательного времени. Существует лишь некоторая циклическая пульсация, расширяющаяся в разные стороны. Конечно, некоторое движение есть, есть какая-то динамика, некий аналог времени. Но аналог до определенной степени, поскольку отсутствует строгая заданность, «стрела времени», строгая диахроничность, необратимость. Каждый последующий элемент и следует за предыдущим и одновременно предшествует ему. Коль скоро мы имеем дело с циклическим представлением, нельзя строго утверждать, что весна обязательно предшествует осени, она может быть рассмотрена и как следующая за ней. Представление о циклическом времени в манифестационистской концепции радикально иное, нежели то время, с которым мы привыкли иметь дело.
Имманентное воскрешение, заложенное в гиперборейский первосимвол, представляет собой момент тайного двигателя всей реальности. Но, в принципе, ни особенной проблемы, ни драмы, ни чрезвычайного онтологического напряжения в проблематике рождения, смерти и бессмертия нет. Это отражается в психологии рядовых носителей манифестационистских традиций. Современные индусы, к примеру (которых, кстати, больше миллиарда), спокойно живут на зарплату в несколько десятков долларов в год, рождаясь, умирая, и особенно не обращая на все это внимания. Для нас это кажется чем-то немыслимым: как можно прожить тридцать-сорок лет в помойке, потом спокойно умереть и при этом еще не особенно расстроиться... Но для индусов — и современных, и древних — это, в принципе, вполне естественная вещь, и не потому, что их слишком много. Просто отношение к жизни, к гигиене, к успеху иное, чем у нас. Индуистская традиция предполагает случайную, игровую, ироничную природу любой манифестации. Поэтому сам человек, который получает десять долларов в год и страшно пашет при этом, бегает рикшей, прокалывает спицей себе все возможные органы, воспринимается как некий фрагмент глобальной реальности. Фрагмент, который вчера завязался, а сейчас развяжется, и ничего не убудет от этого — ни у Великого Ганга, ни у Шивы, ни у Брахмы... Мир — это lila, на санскрите «игра», поэтому жизнь и смерть, воскресение или исчезновение — близкие, родственные друг другу вещи. Существует только имманентная пульсация, в которой любое существо выполняет достаточно скромную роль. Конечно, есть персонажи, которые не очень довольны всеобщим скромным онтологическим статусом. Тогда они (сиддхи, саньясины) идут духовными путями, пытаются прорваться в те инстанции мироздания, где принимаются серьезные решения; где формируется «погода», общий строй мира; где решается, кому быть наказанным, а кому нет... Но это по желанию, хотя путь всегда всем открыт — из любой касты...
С одной стороны, смирение заставляет индусов мирится со своей собственной кастой, какой бы она ни была; с другой стороны, даже чандала, неприкасаемый, при желании может стать духовным учителем. Существуют специальные способы духовной реализации, открытые для всех, кто не согласны со скромной ролью, выпавшей им. Но и это тоже не важно, поскольку общий закон дхармы (порядка) царит сам по себе, и в этом отношении роль отдельных существ и даже массивных бытийных пластов является относительно скромной. В традиционалистском манифестационистском комплексе, в рамках модели, приближенной к гиперборейскому языку, не существует драмы воскресения, не существует уникальности события, в том смысле, который известен христианам.
Метафизическая специфика дуалистических традиций (маздеизма, зороастризма)
Среди индоевропейских архаических традиций есть одна традиция, иранская, которая определенным образом выпадает из всего комплекса манифестационистских учений. Существует много разновидностей манифестационистских традиций — египетская, индуистская, эллинская и т.д. Они все разные и по-разному видят мир, но, тем не менее, у них есть единый подход, все они напрямую проистекают из гиперборейского языка, акцентируют разные его аспекты, следуют разной динамике, разной диалектике внутреннего соотношения этого гиперборейского языка. Для всех них характерен довольно спокойный подход к проблеме жизни и смерти, к проблеме имманентного воскресения.
Разрыв в этом общем индоевропейском комплексе происходит в иранской традиции, в маздеизме. Конечно, это разрыв не полный, но, на самом деле, очень существенный.
В традиции маздеизма, в иранской традиции начинает оформляться полярное драматичное переживание различных аспектов воскресения. От райского безразличия, фатализма индусов метафизическое сознание в иранской традиции перемещается в сферу подозрения о том, что что-то где-то все же глубоко не в порядке. Если индусы считают, что нынешний беспорядок мира просто свойство Кали-юги (и возмущаться этим — все равно, что возмущаться, что пожилой человек в старости теряет зрение или плохо ходит), то иранцы чувствуют определенную драму, уходящую своими корнями вглубь метафизики, в пред-тварные, божественные реальности. И там, в этих пред-тварных мирах, существует некоторая тень, которая касается беспечальных миров Абсолюта, и она-то и дает о себе знать впоследствии — в некотором болезненно угадываемом нестроении вселенной.
Можно сказать, что зороастризм (и маздеизм) является определенным шагом в сторону от полноценного гиперборейского мировоззрения к тем проблемным и очень специфическим традициям, которые обычно принято называть «религиями» (»авраамической традиции») и которые связаны с таким явлением, как «креационизм».
Для того, чтобы правильно охарактеризовать маздеизм и иранскую традицию, следует сказать, что они представляют собой отход от индуистско-манифестационистского принципа в сторону креационизма, авраамизма, так называемой «религии откровения». Во-первых, именно в зороастрийской традиции меньше, чем в остальных манифестационистских традициях, акцентирована тематика циклов. Такое впечатление, что зазор между концом и началом, между старым и новым годом здесь осознается несравнимо более проблематично и катастрофически. Это более не просто сакральная, праздничная точка, где одно исчезает, а другое рождается, не просто момент, выявляющий общий закон непреложной пульсации Божества... — Здесь впервые возникает серьезная озабоченность тем, почему одно кончается, а другое возникает. Почему то, что кончается, кончается, и, вообще, что за всем этим стоит? Понемногу оформляется некоторая догадка, о том, что можно назвать «телеологией бытия».
В метафизике индуизма нет телеологии. Поэтому если индуиста спросить — а зачем все это? — он скажет, что это глупый вопрос... Мол, есть — и все. И божество есть, и имманентные реальности есть, и духовные уровни есть, а телоса, то есть задачи, цели, особой сверхмиссии во всем этом нет. Просто Абсолют устроен таким образом, чтобы из себя исторгать, а потом в себя вбирать; вопрос о «телеологии бытия» в манифестационистской традиции как таковой не ставится. Реальность описывается многомерно и многосмысленно: почему? — как? — что? — куда?- куда надо? — куда не надо? А в принципе, все равно: можно пойти, куда надо или куда не надо... Потому что есть путь правой и левой руки. Есть дороги, пролегающие через святость, через зло, через хохот, через пьянство, через все. Везде и через все есть вход в Абсолют... — Это очень гиперборейский подход, так как нет жестких противопоставлений одного и другого; все пути открыты. — Не факт, конечно, что люди дойдут через ту или иную дверь, но факт, что двери есть, и ничто не помешает теоретически в них войти.
Сознание иранской метафизической традиции видит общую картину мироздания и, соответственно, проблематику циклов, времени и цели бытия гораздо более трагично. Здесь возникает подозрение, что в некоторой точке, в точке разрыва цикла, скрыт важнейший вопрос, важнейшая и неочевидная вещь, которая постепенно перемещается в центр метафизического внимания индоевропейской традиции. Если говорить грубо, то отличие иранской традиции в том, что она дуалистична, так как она предполагает в Божестве некоторое темное начало, Ахримана (Ангроманью), некоторую темную мысль, которая исподволь вредит и приводит к полному нестроению космоса. Эти нестроение, дисгармония, зло, которые существуют в мире, не являются аналогом «плохой погоды», игры приливов и отливов Абсолюта, но сознательной и разрушительной акцией какого-то особого центра, который вполне ответственно и с очень серьезным стратегическим замыслом стремится подорвать основы нормального бытия... Так возникает драма, метафизический конфликт: мы приближаемся к креационистскому мировоззрению и к креационистскому, драматическому пониманию специфики воскресения.
Циклы мира и эсхатология в иранской традиции
Как видит иранская традиция историю мира?
Существуют три цикла. Первый — Бундахишн, «творение», на древнеперсидском авестийском языке. Все возникает из светлого принципа. Из него возникают и духовная и материальная реальность — миры гетик и менок. Менок — это духовный мир, гетик — его плотское воплощение. Процесс космического созидания является процессом установления качественных архетипов Вселенной вплоть до ее материальных форм. И все это длится определенный срок — зороастрийский золотой век, где все в порядке, где правит светлый бог. Но зороастрийская традиция утверждает, что еще до начала творения, помимо светлого бога, каким-то странным образом возникла темная мысль, тень сомнения, некое черное пятно, которое поначалу ничем не отличалось от бесконечного простора, в котором пребывал бесконечный световой бог. Когда же начался процесс создания двух миров в рамках Бундахишна, темное пятно особым образом дифференцировалось от общей тьмы предбытия, окружавшей изначальный свет, и попыталось испортить все начинание.
Процесс вмешательства отрицательного начала в устройство светлого мира лежит в основе следующего космологического периода зороастрийской мифологии. В этот момент темный дух, отделившийся от бездны предбытия с именем «Злая Мысль» (Ангроманью или Ахриман), начинает внедряться в творения светлого бога (Ахурамазды или Ормузда) и постепенно менять их содержание. Это эпоха Гумизишн — по-авестийски, «эпоха смешения». Специфика неощутимого темного пятна в том, что оно действует как некое тонкое, субтильное ядовитое дыхание. Там, где все было хорошо, но прошла тень Ахримана, все вдруг становится плохо. Естественные процессы существования природных, человеческих форм, священных рыб Кара, плавающих в волшебном пруду на северном полюсе, пения птиц в древней нордической столице Вара начинают выглядеть или звучать несколько странным образом, и постепенно семя зла проникает в разнообразные сферы Вселенной, в мир гетик, и само материальное пространство начинает менять свое качество. Возникают катастрофические, тревожные явления, причем эти явления рассматриваются в зороастризме не как естественное старение, не как природная неудача, но как проявление злой воли со стороны того, кого, во-первых, могло бы и не быть, а во-вторых, не должно было бы быть. Возникает драматическая напряженность двух типов метафизики: метафизики активной, деятельной, агрессивной, маздеистской, волюнтаристски утверждающей порядок начала творения, то есть те формы соотношения миров менок и гетик, которые наличествовали в эпоху Бундахишн (как стремление противостоять волнам смешения, которые субтильно и тонко подменяют одно другим, оперируя с онтологическими нюансами). Это иранская метафизика. И метафизики пассивной, созерцательной, успокоенной, которая рассматривает процесс деградации фаталистически и несерьезно, как неизбежно дуальную игру Абсолюта, натягивающего струну между полюсами изобилия и упадка. Это метафизика индуистская.
В маздеизме речь не идет о том, что материя сама по себе зла или что зло выступает в образе дурных людей — дыхание Ахримана гораздо более тонко. — Когда нечто попадает в сферу этого дыхания, оно изменяется очень незначительно, почти невидимо... Не то, чтобы был хороший человек, а стал свиньей... Нет, он может оставаться хорошим, но хорошим по-другому. Или, например, красота меняет детали и преображается в нечто иное, в иную красоту, которая, тем не менее, далеко не уродство.
Специфика эпохи Гумизишн в зороастризме не может быть рассмотрена как некая банальная и грубая дуалистическая мораль: речь идет о дисфигурации архетипов и вещей, которая начинается с нюансов. Соответственно, уже с самого начала противостояние между верными Ормузду и «агентами влияния» Ахримана очень субтильно и не может быть сведено к моралистическому или этическому противостоянию. Отношения между ними не подобны симметрии верх и низ, жизнь и смерть; одна жизнь противостоит здесь другой жизни, одна смерть противостоит другой смерти: Отсюда возникает субтильная дифференциация, определяющая смысл эпохи Гумизишн, в которую мы, по мнению зароастрийцев, и живем...
Постепенно эта эпоха, по зороастрийской модели, движется в сторону все больших и больших завоеваний Ахримана, который пропитывает и высшие и низшие сферы, противопоставляя душу и дух, одни элементы бытия другим, постепенно запутывая ситуацию таким образом, что все пребывает не на своем месте. Все принципиально сдвинуто, смещено. Опять же, не просто верх и низ, право и лево поменяны местами, но все отклонено от нормативного курса... Стрелка показывает не строго на Север, а градусов на пятнадцать в сторону, не в противоположном направлении, нет, отклоняется градусов на пятнадцать... Это касается ангелического мира, и устройства субтильной физиологии, душевного строения человеческих и нечеловеческих существ, природы, элементов, вещей. Все вроде так, а на самом деле не так. Глаза чуть-чуть разные, руки чуть-чуть неодинаковые. Аномалия — это знак Ахримана, тонкая, едва схватываемая онтологическая асимметрия. Традиционно считается, что люди, у которых есть выраженная асимметрия в глазах, в лице, являются помеченными «маркой дьявола». Поскольку стратегия Ахримана — это не противопоставление одного другому (что было бы слишком просто), но именно дисфигурация пропорций, субтильная, диалектическая асимметрия.
Кончается период смешения, по зороастрийской мифологии, тем, что Ахриман полностью добивается своего, и весь мир превращается в то, чем он сейчас является: все, вроде, так, а на самом деле совсем не так; ничто не находится на том месте, на котором должно находиться.
В принципе, индусы признают нечто подобное, но говорят: «что поделать — кали-юга»... Брахманы учатся в мореходных училищах, кшатрии играют на бирже, чандалы председательствуют в парламенте... Зороастрийцы же считают, что дело гораздо сложнее, что все это есть победа темного духа и его демонических орд.
Третья эпоха — это уникальная эпоха Вичаришн, финальный аккорд зороастрийского мировоззрения, по-авестийски, «разделение». Это очень тонкое событие, которое имеет прямое отношение к тематике воскресения. Именно в зороастризме мы сталкиваемся с таким термином, как Фрашокарт, что дословно обозначает «восстание из мертвых», момент, миг и одновременно место воскрешения из мертвых. Важная тематика Фрашокарта, венчающего эпоху Вичаришн, специфическую, последнюю эпоху (кстати, зороастрийцы не говорят, будет ли новый цикл, новый Бундахишн или нет)... Они так же, как и христиане, не видят никакого смысла в продолжении этой истории, более того, считают, что если она будет продолжаться, то решение о разделении и реальность воскрешения окажутся недостаточными, не достаточно радикальными... Это означает, что сила Света не смогла до конца и с корнем извлечь из бытия ту тень, которая пропитала все аспекты реальности.
Концепция Вичаришн ближе всего подходит к тематике страшного суда, апокалиптической битвы, воскрешения из мертвых, которую мы знаем из христианской традиции. Сценарий Фрашокарта, зороастрийского воскресения, тоже странным образом напоминает христианский, поскольку речь идет о том, что в конце времен от Непорочной Девы, которая искупается в озере Завета, родится «последний Заратустра». Поскольку в этом озере Завета, озере Ван (находящимся сейчас в Турции, а ранее принадлежащем Великой Армении — и многие армянские мистики считают себя стражами озера Ван, обосновывая этим мистику своей национально-освободительной борьбы) было разлито семя Ахурамазды. Итак, Непорочная Дева рождает последнего Заратустру (Заратустра это скорее функция, нежели существо). Заратустра собирает полки последних измученных сторонников Ахурамазды и, исходя из особой инспирации сверху, которая призывается путем огненных жертвоприношений и поклонения священному огню (в тот момент, когда огню уже больше никто не поклоняется), он дает финальную битву силам тьмы.
Через это испытание обнажается то, что в этом световом изначальном творении было подлинным и абсолютным, и что таким образом смогло передать свою инициативу сквозь сложнейшие этапы сакрального миропорядка. Вместе с тем отныне полностью проявляется и то, что поддалось темной мысли Ахримана, пошло на поводу у смешения, у субтильного извращения... Ахриманическое начало и уловленные им существа растворяются в черном небытии, снова развоплощаясь. Чернота Ахримана окончательно сливается с чернотой предбытия и больше уже никогда не возникает. Вместе с тем, все то, что было светового, чистого, архетипического в изначальном творении, телесном и духовном, восстанавливается через Заратустру и последний легион, который он возглавляет, и происходит воскресение всех форм. Ахриман попирается окончательно, сбрасывается в бездну, и начинается воскресение. Об этом периоде мало что известно. Не владея полнотой Авестийской традиции, трудно сказать, как точно представляли себе, как детально описывали тематику Фрашокарта зороастрийцы.
Во всяком случае, самое важное для нас то, что в Зороастрийской традиции циклического возобновления, нового творения, новой истории специально не предусмотрено.
Итак, мы имеем дело в этой традиции с особым, специфическом представлением о времени. Это и не циклическое время, и не осевое время. Отсутствие представления о воскресении как об имманентном (циклическом) воскресении в какой-то мере отводит нас в сторону от гиперборейской метафизической модели.
Импликации авраамизма и тайна появления «линейного времени»
Если сделать еще несколько шагов в сторону от циклического представления о времени, мы столкнемся с традицией, которая является абсолютно уникальной и представляет собой яркую аномалию относительно гиперборейского понимания устройства реальности. Речь идет о креационистской традиции, о том, что принято называть «религиями Откровения» и что отчетливо представлено в богословии иудаизма{1}.
Здесь возникает фантастическое для гиперборейского ансамбля представление о трансцендентности Творца, о том, что Бог творит мир из ничто, не из самого себя, не проявляя себя, а просто берет за онтологическую основу что-то принципиально отсутствующее, небытие, ничто (ouk on). И это странное и неизвестное манифестационизму ничто{2} каким-то всесильным жестом трансцендентного Творца приводится к особому квазибытию, поскольку мир как тварь в авраамическом контексте самостоятельным бытием не обладает, бытие дано миру извне, как бы взаймы.
«Копни вещь поглубже, в ней обнаружишь смерть» — такова максима креационизма. Тварная реальность и ее составляющие здесь выступают как оформленные манифестации ничто (ouk on), как големическая{3}, приведенная к квазибытию всемогущей волей трансцендентного, закрытого (в самом себе) Божества, которое принципиально не имеет никакой общей меры с творением и не может, и не желает, и не должно с этим творением вступать в какие-либо интимные отношения. Это представление о Боге как абсолютно ином (ganz Andere) по отношению к миру. В этом заключается весь пафос креационистского представления о реальности.
Смысл креационизма в том, что мир основан не на онтологии, не на развертывании бытия, а на «ук-онтологии», на развертывании отсутствующего бытия; что мир это просто некоторая особым образом выставленная трансцендентным горшечником бездна, воплощенная в форму, не имеющая содержания, заведомо не имеющая субстанциального доступа к тому, кто ее выпростал, заставил явиться, развертываться и осознавать себя. Креационизм предполагает очень интересную вещь: у мира есть начало, трансцендентное начало (Бог вызвал когда-то мир к бытию), но нет конца, потому что ничто, представленное в виде оформленного мира, не может вернуться к Богу, поскольку им радикально не является. И соответственно, кроме нескончаемых лабиринтов скитаний в квазисуществовании никакой перспективы у него нет.
По сути, тварного мира нет в креационистской модели, и, тем не менее, он каким-то образом есть и обречен продолжать быть. Поскольку Бог никогда не сможет его вобрать в себя, его субстанциально преобразить, с ним слиться, то этот мир является фундаментальным трагическим знаком вопроса.
Креационистская модель порождает представление о нециклическом времени. Появляется «тайна однонаправленного времени». Мысль о времени как об однонаправленном процессе не может возникнуть в голове существа инерциально манифестационистской (гиперборейской) ориентации. Для того, чтобы зарница представления об однонаправленном времени сверкнула, что-то в мозгах у человека должно фундаментально измениться, нарушиться... Вне представления о трансцендентном Творце, абсолютно не имеющем никакой общей меры с миром, концепция однонаправленного времени родиться не может. Но она, тем не менее, рождается, и рождается в иудаизме{4}.
Можно сказать, что концепция линейного времени есть процесс размыкания годового круга в наиболее критической его точке — в точке Нового Года. Метафизическое качество этой точки, уровень онтологического разрыва, в ней воплощенного, и есть важнейший индикатор, позволяющий проникнуть в «тайну рождения времени», так как «линейное время» — это не что иное, как «представление», могущее быть локализованным исторически, географически и в контексте истории религий (=парадигматически) (рис 2).

В манифестационистском гиперборейском комплексе статус разрыва реальности в точке Нового Года минимален. Акцент падает на преемственность, континуальность нового по отношению к старому, и на то, что в этот момент истинная (сущностная) реальность синхронической вечности контактирует с видимой реальностью диахронического развертывания событий. Чем более архаические слои Традиции мы берем, тем мягче описывается метафизический переход этой точки от одного к другому, тем более циклично (почти замкнуто) время.
Следующий шаг — зороастрийская традиция. Здесь внимание сосредоточено именно на зазоре в общей ткани непрерывности, на несовпадении начала и конца, на разведении двух базовых онтологических полюсов. Поэтому именно в ней мы впервые встречаемся с некоторым отходом от циклического времени. В зароастрийской циклологии есть четко выраженный телос (»цель»). Это еще не однонаправленность, но уже драматизм развертывания времени в каком-то особом, чрезвычайно важном и уникальном направлении. Точка Нового Года отчетливо двоится: зазор между Бундахишн (творением) и Вичаришн (разделением) приобретает значение вопроса и ответа, старта и финала, задания и исполнения его. Это серьезно контрастирует с мерным дыханием адвайто-ведантистского циклизма.
Авраамическая традиция делает в этом направлении совсем радикальный шаг: она берет два конца цикла, дистанцированные в зороастризме, и разгибает разомкнутый круг в отрезок, в прямую линию. Превращает полную и закрытую реальность в реальность заведомо фрагментарную и открытую. Отныне бытие мыслится как фрагмент, но не как фрагмент чего-то, а как фрагмент ничего, фрагмент сам по себе, как часть без целого. Отсюда напрямую возникает однонаправленное время.
Образ размыкания круга в точке зимнего солнцестояния яснее всего описывает модель трансформации отношения к теме времени в различных типах традиции. Строго аврамическое представление о креационизме, об осевом времени, о единственном и необратимом направлении, по которому может следовать бытие после его создания (раз перспективы возврата не существует), не может знать темы воскресения. Если в полноценной гиперборейской традиции существует представление о «перманентном воскресении» (об «имманентном воскресении»), то в самых последовательных и доведенных до логического предела версиях креационизма, напротив, гипотеза воскресения есть чистый абсурд. Единственно, что может обсуждаться, это продление этой оси времени, попытки качественного (содержательного) изменения направления этого движения, но не более того.
Самый последовательный и радикальный авраамический подход (как своего рода «постзороастрийство») лишен напряжения эсхатологической драмы. Это, в каком-то смысле, стоический подход к реальности, обратно симметричный манифестационизму, в котором тоже есть нечто «стоическое». Но если манифестационистский подход — это стоицизм полноты, онтологический стоицизм, то авраамическая традиция, доведенная до своих логических и метафизически последствий, предполагает «ук-онтологический» стоицизм, стоицизм, основанный на абсолютной тщете. Некоторые формулы Экклесиаста (например, «все суета сует», в том смысле, что «все бесполезно») можно интерпретировать именно таким образом.
Подпольные манифестационистские тенденции в
креационистском контексте -
феномен эзотеризма в
авраамических традициях
Нужно сделать одно уточнение: прямых жестких формул относительно однонаправленного линейного времени мы не встретим прямо ни в «Ветхом Завете», ни у авраамических теологов. Это обусловлено тем, что и в содержании сакральных текстов и в моделях их интерпретации дает о себе знать колоссальное наследие архаического начала (т.е. манифестационизма). За пределом строгого утверждения креационистского (»монотеистического») принципа творения, все символическое и догматическое содержание авраамизма не является чем-то исключительным и легко поддается интерпретации как в манифестационистском, так и в зороастрийском эсхатологическом духе. Это не удивительно, так как сама ткань авраамизма — культы, символы, обряды, сакральные сюжеты и сценарии — является прямым аналогом иных традиций. Уникальность же состоит только и исключительно в метафизической специфике креационистской трактовки, которая, однако, столь сложна и непривычна для человеческого существа, что тысячелетия ушли на то, чтобы очистить беспрецедентную весть монотеизма от рудиментов до- или не-монотеистических традиций. Нельзя, впрочем, сказать, что эта работа закончена и сегодня.
Проступание манифестационистских элементов сквозь модели авраамического, последовательно креационистского богословия в большинстве случаев было спонтанным явлением, от которого не застрахован ни один самый последовательный и тщательно сверяющий каждое утверждение с метафизической догмой креационист. Но такой подход получил и сознательную формализацию, смысл которой сводится к намеренному перетолковыванию авраамических догм (и особенно символического содержания традиции) в духе манифестационизма. Это явление получило называние «эзотеризма». К нему принято относить суфизм в исламе, каббалу (или меркаба-гнозис) в иудаизме, герметизм в католичестве и т.д...
Когда мы открываем Маймонида, мы видим стремление объяснить основы библейской традиции в креационистском духе, откуда и берутся рационализм, стремление истолковать исторически или аллегорически символические сюжеты и обряды (признак осевого времени), отсутствие идеи воскресения (точнее, ее аллегорическое толкование) и т.д. Но когда мы открываем каббалистические трактаты (»Зохар», херонских каббалистов или труды сафедской школы Исаака Лурьи), содержание иудаизма предстает совершенно в ином концептуальном контексте — в манифестационистском ключе. Здесь преобладание сверхрационального, мистико-созерцательного познания, мистическое толкование, синхронизм, холизм, связывающий частности с единым целым, рассмотрение истории как конденсата божественных и метафизических метаморфоз, что, в частности, открывает простор теургии и тауматургии — возможности людям в особых каббалистических ритуалах влиять на ангельские и даже божественные, сефиротические миры. Каббалисты возрождают циклические представления — теория сефиротических циклов (шемитот). Если у иудейских рационалистов тема воскресения либо не акцентируется, либо эксплицитно отрицается (как у саддукеев), то каббалисты трактуют ее мистически и метафизически, как восстановление частного в контексте целого — нечто среднее между полным манифестационизмом (типа адвайто-ведантизма — «перманентное воскресение») и эсхатологизмом зороастрийского типа.
В исламе наблюдается сходная картина. Есть крайний радикально креационистский ислам (в основном, базирующийся на суннитских мазхабах, в первую очередь, ханбалитском, а также на ханафитском). Здесь кораническое содержание трактуются буквально, в историческом смысле. В центре внимания этой теологии метафизика «единственности» Аллаха (вахдад, тавхид), между которым и миром нет ни посредников, ни общей меры. Этот ультракреационизм иногда называется «чистым исламом», салафийя. В наше время эта версия ислама характерна для «ваххабизма», саудовской секты (для многих исламских богословов еретической), развившейся из крайних форм ханбалитского мазхаба. Сходные теологические модели характерны для египетских «братьев-мусульман», для пакистанских представителей секты «таблиг» и т.д. Эти современные течения в исламе в целом довольно точно выражают то, что было движущим импульсом арабских завоеваний — сакральный минимализм, пронзительное восприятие тщеты реальности, воплощенной в пейзажах аравийских пустынь, абсолютная недоступность Аллаха, которая стирает грань между жизнью и смертью, гигантская внутренняя энергия метафизического отрицания, вскрытая в ходе обнаружения нищеты и ничтожности бытия, лишенного опосредующих сакрализационных инстанций. После того, как волна арабских завоеваний несколько стихла и границы исламской цивилизации более или менее четко зафиксировались, сквозь ультракреационисткую ортодоксию новой версии авраамизма стали проступать более архаические черты. Арабизация и исламизация создали для докоранических цивилизаций Азии и Северной Африки (оказавшихся в новых условиях) новый языковый контекст, который в скором времени стал подвергаться внутренней десемантизации в манифестационистском ключе. Эта десемантизация воплотилась в таких явлениях, как шиитский мистицизм, суфийские тарикаты и т.д. Ярчайшим примером чисто манифестационистского ислама является великий персидский эзотерик Шихабоддин Яхья Сохраварди, казненный в Багдаде по приказу Саладина и на основании приговора исламских улемов 36 лет отроду. Учение Сохраварди о «воскрешении существ в мире вечного Востока» является парадигматическим для холистских моделей.
Метафизическая уникальность религий Откровения очень точно схвачена Гейдаром Джемалем. Сам он стоит на позиции жесткой неприязни ко всему эзотерическому и манифестационистскому, поскольку распознает в эзотеризме отказ от радикального трансцендентализма, заложенного в основе авраамической традиции. Для него эзотеризм — суфизм, каббала — есть внедрение в рамки авраамизма (иудаизма или ислама) некоторых «агентов влияния гиперборейского гнозиса», которые фальсифицируют и сглаживают (по его мнению, к своей клановой «жреческой» выгоде) уникальность послания о безысходности мира. Перетолковывая авраамизм в духе холистской благодати гиперборейского календаря, эзотерики (по мнению Джемаля) неправомочно снимают с себя специфическое бремя трансценденталистской напряженности, по законам которой строятся религии Откровения и которая в полной мере осознается и принимается только «пророками» (отсюда его дихотомия: «пророки» против «жрецов»).
Язык современности как последняя стадия метафизической радикализации ультракреационизма
Теперь перейдем к языку современности. Что утверждает язык современности относительно времени, относительно смерти и воскресения, относительно цикла?
Можно сказать, что язык современности метафизически представляет собой последнюю и самую радикальную стадию развития ультракреационизма и гипертрансцендентализированного авраамизма. Можно сказать, что это наиболее последовательный «иудаизм», полностью очищенный от всех архаических и эзотерических пластов. Здесь торжествует концепция однонаправленного необратимого линейного времени без каких бы то ни было поправок и оговорок (без каббалы, без хасидизма, без религиозной практики...). Время становится единственным и главным содержанием бытия, которое движется по диахронической траектории (предшествование никогда не опережает последование). Мир движется только в одном направлении, и в такой ситуации представление о любых формах воскресения, о вариантах и версиях неокончательной смерти, естественно, исключается. Точного представления о воскресении и связанных с ним темах на языке современности просто не может быть.
Язык современности основывается на абсолютизации однонаправленного времени, на отождествлении всего бытия с временным аспектом. Если бы мы не воспитывались на языке современности, если бы все наше миросозерцание не было построено на этой парадигмальной базе, мы бы, наверное, должны были ужаснуться кошмарной перспективе такого чудовищного смертельного нигилизма, того «некрореализма», который заложен в наших румяных современниках, что преспокойно бродят по улицам, живут, отдыхают, работают, голосуют, произносят звуки, напоминающие человеческую речь, являясь при этом (на языковом фундаментальном уровне) носителями столь нигилистической, экстравагантной, ядовитой метафизики, исполненной черных бездн безвозвратного уничтожения реальности, безысходно изматывающей саму себя, свои потоки, льющиеся через людей и вещи, в обреченном временном курсе... Видимо, это особая хитрость, ирония Ахримана — заставлять их с румяным видом провозглашать смертельно нелепые вещи, не беспокоясь о последствиях.
Ясно, что в языке современности воскресения нет, и говорить об этом в таком контексте неприлично, рискуя быть неправильно понятым...
Воскресение как триумф пространства
Рене Генон в книге «Царство количества и знаки времени» описывал конец мира как процесс перехода времени в пространство. Это, можно сказать, наиболее точное описание того, что мы понимаем под воскресением.
Понимание бытия как чисто пространственной реальности — это представление о пространстве как о синхроническом существовании всего вместе. Такое сложно себе представить, именно потому что мы живем в диахронической реальности, и для нас главной, практически единственной категорией является время. Само пространство мы определяем, отталкиваясь от времени. Представление о том, как бытие может существовать синхронно, одновременно для нас очень сложно. Мы не можем себе представить, как два события, которые для нас находятся в диахронической зависимости, могут существовать одновременно — это все равно, что представить себе, что мы стоим в очереди в пивной и пьем пиво одновременно, или куда-то идем и одновременно присутствуем там, куда направляется. Два момента существования, которые представляются нам как абсолютно дискретные и только в одной логической последовательности могущие возникнуть и существовать, рассматриваются одновременно. Иными словами, представить себе пространство как форму бытия — это все равно, что взять привычное для нас осевое время и замкнуть его волевым образом. — Возникает, естественно, короткое замыкание, и человек, помысливший мир через пространство, оказывается в очень неудобном положении.
Генон утверждает, что специфика конца времен, специфика событий, происходящих в этот момент, заключается в том, что время само переходит в пространство, все время переходит в пространство и обнаруживается со всей наглядностью, обнажается тот уровень бытия, который уже очень давно вынесен за пределы человеческого восприятия.
Даже циклическое представление несет в себе элемент диахроничности, там все равно существует, пусть относительное, но представление о последовательности. Пространственное представление о бытии, когда бытие схватывается все вместе, во всех его проявлениях, свойственно взгляду на мир с точки зрения вечности, sub specie eternitas, это срез мира в его вечном, сущностном, качественном, измерении.
Момент воскресения и конца времен — это уникальное событие, которое может быть описано не как событие (как временное явление), но как поглощение пространством времени. Время, которое является главным содержанием языка современности, основных процессов бытия (как оно нам дано), в определенный критический момент мгновенным образом замыкается на себя самое, обрушивается внутрь... Возникает имплозия, не эксплозия (взрыв вовне), а наоборот — «взрыв внутрь». Мир рушится во внутреннее измерение собственного существования, и реальность открывается в ее вечном аспекте. И это происходит одновременно для всех аспектов реальности — в режиме резонанса — тотально и безотзывно.
Воскресение в христианской традиции
Христианская традиция берет за отправную точку своей метафизики рассмотрение мира в иудаистической креационистской перспективе. Она наследует от иудаизма креационистское отношение к реальности и видит мир как абсолютно трагичный, убывающий, погруженный в поток однонаправленного времени энтропирующий сгусток, созданный Творцом, отторгнутый от него и предоставленный самому себе. То есть до какого-то определенного момента здесь не только существует полная солидарность с иудаистическим подходом, но интересно отметить, что ранние христианские авторы гораздо более жестко и последовательно, чем сами иудаисты, продолжали и развивали иудаистический пессимизм относительно несамостоятельности и «ук-онтологичности» творения. Именно апостолы (и в первую очередь, святой апостол Павел) заложили основу метафизической методологии креационизма, которая являлась важнейшим, центральном элементом для разработки христианской, новозаветной догматики{5}.
Но это лишь одна сторона христианской метафизики. Креационизм постулируется как выражение Закона, т.е. максимальной формулы ветхозаветного бытия. Но новозаветная метафизика начинается именно в тот момент, когда ветхозаветная онтология достигает критического предела.
Происходит некоторое уникальное событие, которого теоретически могло и не быть, но которое, тем не менее, есть — воплощение Бога. Трансцендентный Бог, пребывающий заведомо за пределами, не имеющий никакой общей меры с тварной реальностью, в соответствии с неведомым Промыслом решает вторгнуться в эту обреченную реальность и привнести в нее, в самый нижний пласт онтологии, в среду самого отчужденного и отторженного, отвергнутого, немыслимый, незаслуженный, благодатный Дар. — Возможность для твари причаститься по благодати (не по природе) к Божественному Бытию.
Здесь обнаруживается полная антитеза иудаизму, метафизически перпендикулярная основным аксиомам креационизма. Сам апостол Павел прекрасно отдает себе отчет в революционности и беспрецедентности евангельской истины. «Для иудеев соблазн, для эллинов — безумие». Так определяет он сущность Благой Вести. «Соблазн для иудеев» — так как христианство опрокидывает креационистскую онтологию, утверждает, что Закон нашел свое завершение (не возможное в рамках его самого — «ничто же бо совершил закон») в эпохе благодати, что Ветхий Закон снят фактом прихода Мессии, который принес в мир Новую Метафизику. Новая Метафизика Христа — это очень существенный момент.
Среди современных иудеев и мыслителей находящихся под влиянием иудаизма, есть мнение, будто христианство представляет собой некоторый «преждевременный» иудаистический мессианизм, который возвестил о приходе мессии раньше, нежели иудейский мессия пришел. Есть и в христианстве (особенно в западном) трактовки Христа в духе строго иудейского креационизма. Полнее всего это выразилось в ереси эвионитов, чья христология, приравнивающая Христа к пророку, позже повлияла на ариан, несториан и стала догматическим элементом ислама.
На самом деле, существует глубинное, безбрежное метафизическое различие между иудаистической эсхатологией и христианской эсхатологией. Никогда, ни в каких своих ответвлениях иудаистическая традиция не утверждала ни божественности мессии, ни того факта, что мессия будет метафизическим спасителем всей реальности, ни троической метафизики, на которой базируется христианство.
Христианство основано на драматическом представлении о том, что тварный обреченный мир (двигающийся только в одном направлении — в сторону убывания) в критической точке своего упадка напрямую и неопосредованно подхвачен (незаслуженно — поскольку это произошло не из-за свойств его самостоятельной природы, но как дар божественной любви) Божеством и введен в преображающий свет вечности, к которой по своей природе он не причастен, но стал причастен по благодати, через свободную жертву Сына. Здесь нет цикличности, потому что изъятие однонаправленно разлагающегося (если предоставить его самому себе) мира из его естественной траектории и вовлечение его в горние ручьи небесного града происходит мгновенно, одноразовым образом, случается раз и навсегда и никогда более не повторяется. Этот миг по сути дела является самым главным и единственным событием сакральной истории, настолько значительным, что эту историю упраздняет.
Структура ук-онтологии рушится до основания воплощением Христа, его искупительной жертвой. После этого мир для христиан начинает двоится: с одной стороны, существует та реальность, которая продолжает двигаться «иудаистическим» авраамическим путем к своему печальному бесконечному концу, с другой стороны, возникает совершенно новая реальность, новая онтология, онтология церковная, новозаветная, где все параметры бытия преображены, качественно изменены, уже не те, которые царят во внецерковном мире. Христианская традиция, община, Церковь — это уже не мир, это принципиально иная реальность. Эта реальность имеет внешнее сходство с обычным миром, но на самом деле это нечто качественно и принципиально иное. Одноразовое вторжение божественной благодати радикальным образом подводит странный и неожиданный итог под трагическим существованием мира, обреченного на бесконечную энтропию.
Здесь могут возразить, что есть в христианстве такие выражения: «будет новое небо, новая земля», «паки бытие», «жизнь будущего века». Не следует ли отнести их к циклическим представлениям? На Западе существуют одномерные традиционалисты, которые говорят — «вот, мы нашли в христианстве циклы; там тоже, как и в других традициях, говорится, что после Страшного Суда, после Воскресения все начнется снова...» Христианское метафизика отвергает такую возможность толкования. Это подчеркивается ортодоксальными экзегетами: данные высказывания нужно понимать иносказательно. И «будущий век», и «новые небеса и новая земля», и «пакибытие» (то есть «следующее бытие», «новое бытие», «снова-бытие») — все это относится не к новой циклической реальности, а к тому уникальному моменту, который называется воскресением.
Что происходит с точки зрения христианства в момент воскресения? Подчеркну — воскресение здесь, не заложено в имманентную природу реальности, но привнесено как дар, как жертва самим Богом, Сыном Божьим, вторым лицом Пресвятой Троицы. Это столкновение мира периферии, временного процесса, с теми мирами, которые находятся внутри... Реальность имманентного бытия вводится через точку разрыва, через разомкнутость временной стихии в Святую Святых, пребывающую в недоступном, недосягаемом центре. Возникает одновременное схватывание всего круга. Весь мир, вся история открывается не в фатальном роковом диахроническим процессе (безнадежно энтропическом, «иудаистическом», печальном), но обобщается пространственным светом одновременного схватывания, в синхронной данности вечного — еще более тотально и головокружительно, нежели синхронизм мира в циклическом восприятии, представляющим собой все же умеренную картину, в сравнении с эсхатологическим всплеском пространства христианского воскресения мертвых.
Здесь речь идет не просто о повторяемости одного и того же, а об открытии того, что одно и то же есть всегда и самотождественно себе во всех аспектах. Происходит трансцендирование, преодоление той реальности, которая открывается через цикл. Христианская концепция воскресения — это не «умаленный недоконченный циклизм», не «несовершенное представление о циклическом проявлении бытия», но метафизическое откровение одноразовости воскресения, самого важного и самого фундаментального события истории, которое отменяет, снимает, палит любые события, любую последовательность...
Как представить себе «тело воскресения»? Почему говорится о «воскресении из мертвых во плоти»? Как решить вопрос об этом пространственном «пакибытии», на которое отныне, после Христовой жертвы, обречены все люди? Напомню, что согласно Евангелию, саддукеи и фарисеи (как раз представители крайнего иудаизма, очищенного от архаической манифестационистской подоплеки) испытывали Христа, насмешливо говоря: «а как же быть, если женщина, которая имела несколько мужей подряд, умерших один за одним, воскреснет, кому из них она будет принадлежать?» Они спрашивали так (имплицитно отрицая воскресение вообще) в достаточно классическом ключе, представляя воскресение как реальность, сходную с той, в которой живет человечество сейчас. На что Спаситель ответил, что «в воскресении не выходят замуж и не женятся, а все будут яко ангелы». С другой стороны Спаситель утверждал, что воскресение произойдет во плоти. Как примирить между собой «яко ангелы» и «во плоти»?
В зороастризме души людей, называемые фраваши, представляются в виде крылатых дев (иранских валькирий). Они играют центральную роль в маздеистском воскресении (Фрашокарт), поскольку ангелическое начало в человеке в данном случае расценивается как главный субъект происходящего события.
Для того, чтобы эти моменты свести воедино и получить (пусть отдаленное) представление о реальности воскресения, можно сделать следующее замечание: в любом человеке, даже во временном человеке, существует некий ангелический уровень, который уже сегодня, сейчас сопричастен вечности. На этом уровне (хотя бы приблизительно) можно схватить вещи в их пространственном измерении. Но ангелический элемент — лишь бесконечно малая часть человека. Это ангелическое интуитивное начало, способное осознать вечность, глубоко задавлено, успокоено и закопано. В течение всей благополучной жизни оно не дает о себе знать, как правило, никогда и ни при каких обстоятельствах. Это начало остается лишь возможным, потенциальным. — Актуальна же в человеке телесность, которая — вопреки замороженному и глубоко запрятанному ангелу — дает о себе знать спокойно, методично, регулярно, исподволь, вплоть до того, что человек склонен отождествлять с телесностью вообще все существование как таковое. Факт бытия для человека с безнадежно уснувшим ангелом и есть факт телесности.
Можно сказать, что даже при погружении в поток циклического существования в человеке сохраняется потенциальная ангеличность, никак не проявляющая себя, тогда как телесность, напротив, актуальна и проявляется постоянно, навязчиво, многообразно и многомерно. В момент воскресения все пропорции поворачиваются обратным образом: актуальной становится именно ангеличность, та часть в человеке, которая в обычном существовании вообще не дает о себе знать; телесность же, напротив, наличествует как бесконечно малый, не очень существенный, потенциальный элемент. Иными словами, в воскресении выстраивается или обнаруживается та природа человеческого существа, которая, на самом деле, и есть единственно реальная его природа с правильно выставленными пропорциями, где духовный ангелический компонент — это практически все, а телесность — это незначительный фрагмент в общей картине.
Возникает интересный вопрос, какое тело в воскресении будет дано людям? На этот счет существуют различные традиции, повествующие о «теле воскресения»... Каббалисты говорят, что есть в человеческом организме такая косточка луц, которая находится внизу позвоночника. Она не подлежит тлению и изымается из гробов ангелами Страшного Суда. На основе этой косточки будут верстаться новые «тела воскресения». Эти представления несколько окрашены интерпретацией воскресения как диахронического процесса: жил человек, потом умер, косточка пролежала, потом ее взяли, потом из нее что-то слепили заново... Диахроническое представление является более ограниченным, нежели полноценная метафизика воскресения, где вскрывается вся реальность сразу.
Более адекватным представлением о телесной специфике в момент воскресения будет представление о том, что тело человека берется совокупно, синхронически за весь период его существования от младенчества до смерти, включая все поступки, телодвижения, жесты, состояния, в которых оно пребывало, и складывается в некую странную пространственную фигуру.
Представим себе, что мы рассматриваем довольно сложную статуэтку. Мы можем обратить внимание на ее отдельные фрагменты, сконцентрироваться на деталях, изучить рельефы... И эти рельефы соответствуют нашим стадиям жизни — это мы в коляске, это мы в школе, потом повзрослели, потом женились, обедаем, сидим в офисе, хохочем на уикенде, придвигаясь все ближе к и ближе смерти — и все это вместе (одновременно) представляет собой сплошное тело, различные проявления которого (плюс вегетативные всплески, испарения, соки) скомпонованы в некоторый единый телесный ансамбль, в фигурку, в статуэтку... Ее держит в руках ангел, который не был проявлен, пока все это творилось при жизни, но который вдруг очнулся в один момент (в момент воскресения) от онтологического обморока, и выставляет, держит этот странный телесный предмет перед своими (и чужими) глазами.
Если бы этот ангел пробуждался еще до решающего момента, если бы он давал о себе знать заведомо, при жизни, пытаясь пробиться в сознание человека, как птенец сквозь яйцо, то, соответственно, жизненные состояния были бы менее телесными... Чем более пробужден ангел в человеке, тем более он заботится об эстетике той фигуры, с которой он будет выступать в момент воскресения, радея о наиболее адекватных очертаниях, эстетичных пропорциях... Практика церковного покаяния (исповеди) призвана служить тому, чтобы заведомо излагать, повествовать о засилье телесности, обращаясь к этому мигу воскресения, к собственному ангелу, сообщая, как непотребно в очередной раз вело себя тело опять, сокрушаясь о том, как неприятно и отвратительно это будет выглядеть в День Гнева. Таким образом, благодаря исповеди и покаянию, дух воскресения (зародыш воскресения) в человеке свыкается с созерцанием лучей Страшного Суда, всеобщего воскресения мертвых, привыкает существовать по ту сторону временных реальностей и невероятным усилием пытается освоить, приспособиться, адаптироваться в синхроническом пространственном бытии, когда уже ничего изменить будет нельзя. Поэтому практика покаяния и духовной исповеди призвана помочь существу в момент воскресения.
Можно сказать, что те существа, которые культивировали ангелическое начало в себе при жизни, в диахроническом потоке, в окончательной фигурке Страшного Суда будут эстетически относительно приемлемы. Те же люди, которые совершенно не заботились о «воскресной онтологии», об онтологии вечности, о существовании мира в условиях синхронности, будут уродскими кривыми башенками, корявыми клячами указывать в никуда (вполне в мамлеевском стиле), в абсолютную ночь, замерев в странные знаки, ничего не обозначающие, как окна внешних сумерек... Тогда содержательной, «воскресной» линии в личной судьбе им будет очень-очень не хватать.
Существует определенная логическая последовательность между темой воскресения и Страшным Судом, но если мы вдумаемся в представление об онтологии воскресения, станет очевидно, что это одно и то же. Нельзя строго считать, что вот — одно событие, а вот — другое. И Страшный Суд и воскрешение из мертвых являются одновременным, синхронным событием, поскольку здесь речь идет об отмене времени.
Страшный Суд также не следует понимать диахронически: умер, воскрес, выступил, рассказал о своих заслугах и прегрешениях, и отправился на небо отдыхать, либо в ад — мучаться. Все происходит одновременно и сразу, более того ад — это не просто какое-то дополнительное пространство, как и рай, это просто элемент того же самого пространства, где находится сумма человека в момент воскрешения. Человек, который оказывается в миге воскресения, занимает сразу то место, которое соответствует его последней сущности. Речь не идет о каком-то лицеприятном или нелицеприятном суде: все решается, строго говоря, до воскресения. Момент воскресения — это лишь мгновенное подведение баланса. Агнцы и козлища, которых разводит на два стада Судия, уже определены заведомо. В момент воскресения одни лишь окончательно обнаруживаются как овны, а другие — окончательно как козлища. И в таком качестве — кто как козлища, кто как овны — они остаются, причем остаются навсегда!- в этом сверхтварном единовременном пространственном ансамбле.
Отсюда старый богословский спор: «вечен ли ад, вечен ли рай?». Безусловно вечны и ад и рай, поскольку, манифестировавшись в этом пространственном онтологическом поле воскресения (и раз дальше никаких событий нет), каждый проявившийся там теперь и остается. Баланс между ангелическим и телесным, между христианско-церковным, духовным и ветхим, заблудшим, запечатлен в человеческом сердце в момент воскресения во плоти со всеми доказательствами. Со всеми аргументами, начертанными в сердце, человек предстает в недвижимом пространственном комплексе.
Представления о Страшном Суде и представления о воскресении, фактически, тождественны.
Христианство связывает воскресение из мертвых с уникальным жертвенным фактом прихода Сына Божьего в мир, с его страданием, с его крестной мукой, с его светлым трехдневным воскресением, с новой пасхой. Не будь этой жертвы божественной любви, обычное осевое временное распыление было бы уделом обреченного тварного бытия. Вне Христа христианская традиция видит лишь убывающий энтропический мир трагичной иудейской теологии, которой сознание христианина безмерно ужасается, и избавлению от которой безмерно радуется. Отсюда, кстати, специфика христианско-иудейских отношений. Подлинные христиане, православные (остальные христиане — не совсем христиане), с грустью видят тех, кто продолжает оставаться в рамках Ветхого Завета, как упорствующих носителей однонаправленного времени, стойко коснеющих в отрицании воскресной онтологии. В иудаизме нет веселья вечности, а то веселье, которое есть, не очень веселое{6}, как, на самом деле, печален и невесел юмор большинства еврейских юмористов... Сами шутники вызывают более жалость, недоумение, сострадание, нежели желание заливаться лучезарным хохотом. Freaks and geeks, лилипуты, заросшие мохнатые грустные лица с жабьими пленочными глазами... Укороченные конечности, жалкий бродячий цирк калек, мутантов, вырожденцев с иллюстраций к учебнику Макса Нордау. Совершенно не весело.
Великая, незаслуженная нами, сверхсправедливая жертва Исуса Христа вносит в мир трансцендентный луч реинтегрированной синхронности бытия. Циклизм в такой ситуации обнаруживается как компромисс. Однако чудесность великой жертвы особенно остро, выпукло видится на фоне безысходно линейного времени — как его наиболее радикальная антитеза. Индуисты, исповедующие циклическое время, неспособны понять уникальности христианской онтологии воскресения, чье трансцендентное качество столь жестко контрастирует с подчеркнуто одномерным имманентным диахронизмом однонаправленной необратимой истории, понятой по-иудейски. Единственно, где можно найти некоторые параллели православной онтологии воскресения в традициях циклического типа, это в тех учениях, которые ставят своей первой задачей выход за пределы циклических повторений, разрыв цепи вечного возвращения.
Но там это «стремление снизу», христианство же — это открытая сверху из полярных регионов божественной реальности благодатная магистраль. Без жертвы Исуса Христа нет онтологии пространства, нет Страшного Суда, нет такого пакибытия, которое располагалось бы радикально вне времени. Сама Церковь является территорией воскресения, предвосхищением его. В инициатическом измерении святого крещения мы погребаем свою временную сущность и получаем ангелическое семя нового человека, человека воскресения. Эта частица вечности, даруемая Исусом Христом и передаваемая нам Святым Духом, «иже везде сыи и вся исполняяи». Пространство воскресения соткано из Параклета, Утешителя. Это сияние предтварной онтологии.
Конец времен, новый год Вселенной, Страшный Суд и всеобщее воскресение приходятся на тот уникальный момент, в котором разные концы цикла сходятся в резонансе, и точки разрыва малых и великих кругов мироздания совпадают. Это событие абсолютно позитивно, онтологично и содержательно. Совершенно неправильно рассматривать светопреставление как «погасший свет мира», как уничтожение, как черную ночь. Это не только не конец, это даже больше, чем просто начало, это непреходящее начало вечного бытия. Конец мира — это всеобщая абсолютная Пасха, совершенная радость, самое главное и самое прекрасное событие, свершение всех свершений. Надо этого не опасаться, не стремиться отдалить, а жаждать, любить, всячески приближать. Смерть времени — это смерть смерти. Подлинно живо только святое пространство, одновременное и вездесущее световое дуновение третьего лица Пресвятой Троицы.
Примечания
{ 1 } Относительно того, в
какой мере это богословие было характерно для древнего
иудаизма, ведутся сегодня споры. Есть версия, что монотеизм
как креационизм был свойственен иудейской традиции изначально
и тем самым заведомо отличал ее от всех иных традиций. Другие
полагают, что более «нормальная» в контексте
манифестационистских представлений традиция была перетолкована
в креационистском духе иудейскими законоучителями относительно
недавно: указывают часто на 6 век до нашей эры. Третьи
связывают креационистскую теологию с влиянием персидской
«религии магов», маздеизма. Не подлежит сомнению, однако, тот
факт, что уникальность иудаизма как единственной
креационистской теологии ясно понималась первыми христианами —
в частности, святым апостолом Павлом, который говорит об этом
прямо, эксплицитно и подробно. Именно в таком качестве и был
интегрирован в христианское учение «Ветхий Завет». Хотя и
здесь возможны разные мнения: не было ли это специфически
христианским взглядом на сущность иудаизма? Или иначе, не
повлияла ли христианская теология на позднейшую теологию
иудаизма, который согласился с христианской моделью,
отбрасывая, естественно, всю сотериологическую онтологию,
связанную с метафизикой «Нового Завета». См. на эту тему:
А.Дугин «Метафизика Благой Вести» в кн. «Абсолютная Родина»,
М.,1999.>>
{ 2 } В греческом языке четко разделялись два
понятия — meon и ouk on. Первое означало
манифестационистское начало «предбытия», т.е. непроявленную
божественную реальность, из которой исходит проявление. Второе
же было искусственно введено христианской теологией для
описания специфики креационизма как уникальной вести
иудейского Закона. См. подробнее А.Дугин «Метафизика Благой
Вести», указ. соч. >>
{ 3 } Голем (дословно, «великан»,
«истукан») — персонаж средневековых иудейских преданий.
Представляет собой искусственный человекоподобный аппарат,
оживленный благодаря каббалистическим операциям раввина. Голем
оживляется искусственными манипуляциями — в некоторых версиях
легенды — пентаграммой, которую ему вставляют в рот. Г.Шолем в
книге «Символизм Каббалы» (G. Scholem «La kabbale et sa
symbolique», Paris 1975) описывает ритуалы изготовления
големов каббалистами. Эти ритуалы теургически повторяют
творение людей Яхве из глины. См. Г.Майринк «Голем», М., 1989,
а также лекция А.Дугин «Угроза гомункула». >>
{ 4 } О возможности толкования «Ветхого Завета»
в манифестационистской (гиперборейской) оптике мы говорили в
лекции о Г.Вирте, конкретно в истории с «Palestinabuch». О
соотношения креационистской теологии, которая рождает теорию
«линейного времени», и иудаизма, мы говорили в сноске
{1}. Стоит указать также на подробное исследование
М.Элиаде «Миф Вечного Возвращения» (Мирча Элиаде «Миф о Вечном
Возвращении», Санкт-Петербург, Алетейя. 1998), эту же линию
Элиаде проводит и в других своих работах. Идею о том, что
иудейский креационизм мог быть радикальной формой развития
дуалистической иранской метафизики, и следовательно, первым
приближением к теории линейного времени можно считать сценарий
маздеистского учения о трех мировых периодах и зороастрийскую
эсхатологию, следует исследовать подробнее, так она может
подвести нас к очень важным открытиями в области истории
религий. >>
{ 5 } См. также сноску {1}. >>
{ 6 } Традиционное (ритуальное) веселье
еврейских хасидов метафизически сопряжено с их мистической и
каббалистической ориентацией, которая центрирована на
манифестационистской интепретации иудейской традиции. Это
веселье «перманентного воскресения», типологически близкое
другим формам холистского миросозерцания. >>