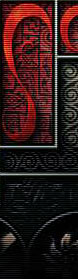
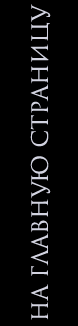




Александр Дугин
«Тайная мать»
Тот, который «там-здесь» сидит на
стуле.
Фраза из недавнего сна
Что является предметом лекции?
На первый взгляд — непонятно. Нечто смутное, расплывчатое, неопределенное...
И все же сочетание слов что-то говорит нашему
бессознательному, вызывает напряженное смысловое волнение,
предшествующее пониманию, которое все время
ускользает...
Тайная мать...
По-тибетски «тайная мать» — gsang yum chen mo.
Это один из терминов ваджраяны, традиции тибетского буддизма.
В качестве предварения этой лекции, в качестве эпиграфа к ней я выбрал странное выражение. Это не цитата классика, это фраза, которая пришла ко мне во сне. Одну совершенно кошмарную ночь, вместо нормальных сновидений и физиологического отдыха, меня преследовала одна фраза — тот, который «там-здесь» сидит на стуле. Это, казалось бы, бессмысленная, идиотская фраза не давала мне покоя... Самое неприятное, тревожное пятно этого высказывания — выражение там-здесь. Если там, то тогда уже не здесь. Если здесь, то тогда не там. Однако с какой-то патологической навязчивостью тогда, во сне, невидимый голос сомнительного происхождения все наяривал глупую фразу. Я подумал сквозь сон: если она повторяется с такой настойчивостью, она просто не может не иметь какого-то смысла. И я пользуюсь поводом — лекцией Нового Университета — для того, чтобы освободиться от этой фразы.
Позднее мы поймем, что она все же имеет какое-то отношение к основной теме нашего изложения.
Итак, начнем с того, что является предметом нашей лекции — с «тайной матери». В этом словосочетании есть некоторое созвучие с абсурдным фрагментом тяжелого, малоприятного сновидения.
«Тайная мать».
Мы произнесли: «тайная мать»: И все же совершенно непонятно, о чем будет идти речь дальше...
Если бы у нас была не лекция, а семинар, я бы спросил: «А что вы, собственно, хотели бы услышать в лекции с таким названием? Почему вы пришли? У вас есть какая-то определенная цель?»
Название неопределенное, размытое, его содержание настойчиво, упорно, напряженно, злостно ускользает от нашего сознания, не желая говорить нашему рассудку ничего определенного, наоборот, как бы дразнит. И тем не менее, если повторять это сочетание достаточно долго, то — как бывает от беспрерывного повторения абсурдных словосочетаний — возникает некая притягательность... Мы начинаем ощущать, что без этого словосочетания мы отныне не можем обойтись, несмотря на его абсурдность и ни с чем несоотносимость...
Без всякой причины нам хочется слышать это выражение — от себя, от друзей, от случайных прохожих, снова и снова, читать эти строки в афишах, искать их в газетах, набирать это словосочетание в интернетовских поисковых системах, для того, чтобы опять и опять вовлекаться в темную воронку каких-то содержащихся здесь смутных подразумеваний. Если сосредоточиться на этой теме, можно увидеть, что в ней заключен нездоровый парадокс, злостное противоречие... Ведь с точки зрения бытовых и основанных на житейском опыте умозаключений, тайным (неизвестным, не установленным наверняка) бывает отец. Так случается: мать есть, а отца нет, или если был отец, мы гадаем — кто он? Одна знакомая, лет двадцать назад, когда ее спросили «кто же отец ее ребенка?», ответила: «Тот, кто забыл у меня свой свитер».
«Тайный отец» — обыденная фигура, «отец-летун», «отец, не платящий алименты». Такого персонажа нашей жизненной сцены представить себе легко. А вот «тайная мать» — уже сложнее, поскольку даже по самой простой логике вещей мать неразрывно связана со своим ребенком, его выкармливает, воспитывает, и редко возникает ситуация, когда мать была бы тайной.
Если распространить эту формулу на метафизику, то окажется, что отец в метафизике в большинстве сакральных сценариев — также всегда тайный, отсутствующий, трансцендентный.
Мать, напротив, всегда имманентна, явлена, конкретна. Есть мать, есть порождающее женское начало, которое дает жизнь чему-то другому, нежели она сама. И есть невидимая, трансцендентная причина, которая, после определенных операций с матерью, вызывает к бытию новое существо.
Если бы мы назвали лекцию «Тайный отец», то, наверное, никакого парадокса или анормальной смысловой вибрации не возникло бы. Мы бы поговорили в конвенциональных терминах о простых, суровых метафизических вещах. Кстати, лекция приблизительно о «тайном отце» уже была прочитана в Новом Университете и называлась она «Пол и Субъект». После той лекции я обещал аудитории, что придет время, и я выскажу идеи, трактующие тему в ином ракурсе. Все, что говорилось на лекции «Пол и Субъект», должно было быть когда-то скорректировано с акцентом на ином поле.
Некоторые проницательные слушатели подходили ко мне и говорили: «Александр Гельевич, но ведь Вы говорите только одну половину истины... Вы намекали в других работах, что есть еще одна часть метафизической темы «Пол и Субъект»... «Да, — отвечал я, — да, будет вторая часть... Подождите, не уезжайте из города, рано или поздно в Новом Университете будет лекция и об этом.»
Тот, кто не уехал — дождался.
Тайная мать — противоречие, тайная мать — тревожный, зловещий образ, тайная мать — навязчивая неопределенность, не желающая переходить в четкие, ясные формы.
Это то, что избегает нашего рассудочного анализа, то, что находится, как бы, сбоку и грозит.
Чем является это словосочетание?
Можно назвать его «метафизическим образом». Если подойти со всей строгостью, это противоречивый термин. Образ связан с живой конкретикой восприятия, это структурированный, нагруженный значением импульс, который человеческое существо получает из внешнего мира через реальность опыта. Пятерица внешних чувств, воспринимая окружающее, схватывает в этом окружающем образы, структурирует их, придает им определенное смысловое значение, потом оперирует с ними по особой программе памяти, умозаключений, оценок, ассоциаций... Соответственно, образ связан с пространством, с чувственными ощущениями.
Слово «метафизика» предполагает нечто прямо противоположное. Метафизика — это как раз то, что избегает образа, то, что присутствует в субтильных, не чувственных, не воплощенных, не конкретизированных реальностях. Для того, чтобы созерцать образы, достаточно быть обычным человеком, даже обезьяной или муравьем. Муравей тоже знает образы. А вот у метафизики этого конкретного чувственного выражения, по определению, нет, и для того, чтобы испытывать или созерцать метафизические реальности, обычным человеком, муравьем или шимпанзе быть недостаточно. Для этого надо быть метафизиком, так как речь идет о той реальности, которая схватывается путем совершенно особой операции, когда определенная сторона души человека настолько истончается, что воспринимает послания скрытых, «глубоко законспирированных» аспектов реальности. Здесь воспринимается и отражается то, что обычное человеческое существо не может позволить себе воспринимать и отражать. Иными словами, образ и метафизика стоят на разных полюсах.
Когда мы говорим о метафизике образа или о метафизическом образе, мы сразу вступаем в область парадоксального мира, где предельно развоплощенное и предельно конкретное сочетаются воедино.
Если среди вас есть люди, внимательно изучающие традиционализм, и по нашей рекомендации занявшиеся изучением иностранных языков, прочтением оригинального корпуса текстов, необходимых для современного интеллектуала, они, конечно, поймут, к чему я клоню... Вы легко опознаете, на что я имплицитно ссылаюсь, употребляя термин «метафизический образ». По-французски это называется l'image metaphysique. Очевидно, я имею в виду Анри Корбена.
Анри Корбен — крупнейший французский традиционалист, автор множества замечательных книг, в основном, по иранской традиции, исламу и исламскому гнозису. В свое время он был первым переводчиком Sein und Zeit Хайдеггера на французский язык. Он был глубоким знатоком онтологической философии, в том числе русской онтологической философии, слушал в Сорбонне лекции о.Сергия Булгакова по софиологии. Но приоритетно он занимался исламским эзотеризмом, в первую очередь, иранским.
Его книги являются драгоценным камнем современного (но антисовременного по сути) интеллектуализма. Когда мы произносим имя Henri Corbin, у нормального интеллектуала сразу возникает ощущение, напоминающее то, что менее интеллектуальный испытывает, выпив бутылки три хорошего русского национального пива. Анри Корбен в своих произведениях рассеял веер тончайших, глубинных интуиций. Он очень ярко и деликатно описал то, что является сферой глубинной онтологии, метафизического корневого познания реальностей, стоящих за внешним и нашим внутренним миром.
Концепция «метафизического образа» и «метафизического воображения» у Корбена детально разработана на материале крупнейших метафизиков Востока. Термин «метафизический образ» является для него ключевым. Подробно это изложено в книге «L'imagination creatrice de Ibn Arabi»{1}.
Когда мы переводим название книги Корбена L'imagination creatrice de Ibn Arabi и говорим «творческое воображение», нам становится сразу скучно, мы засыпаем — избитый штамп. «Творческое воображение» — этим выражением в его обычном понимании, строго говоря, вполне можно было бы пренебречь. Поэтому формулу L'imagination creatrice de Ibn Arabi лучше вообще оставить без перевода. Кто захочет — поймет.
Нас часто упрекают в том, что мы позволяем себе много латинизмов. Но попробуйте озаглавить русский перевод книги «Творческое воображение Ибн Араби»... Это будет надругательством над замыслом автора, предельной банализацией изначального посыла. На худой конец — «творящее воображение», да и то далеко от оригинала.
В книге Корбена разбирается тонкая, тревожная, во многом жестокая реальность, никак не укладывающаяся в понятие «творческое воображение». Это жестокое, садистическое понуждение увидеть, визуализировать, вскрыть тайные структуры мира. Это революционное послание.
Что делать, когда невозможно точно перевести? Может быть, оставить без перевода вообще? Анри Корбен «Имажинасьон креатрис у Ибн Араби»? Для того, чтобы понять, усвоить определенные вещи, необходимо приложить очень серьезные усилия. Надо уяснить, что познание настоящих, истинных вещей сопряжено с познанием языка, на котором они высказаны, в контексте которого они существует. Не существует прямого перевода сложных и глубоких истин на язык глупых и поверхностных людей. Это будет искажением, извращением, а не переводом. Для того, чтобы понять, что хотели сказать на своем языке люди на самом деле, нужно, как минимум, выучить этот язык. Отсюда возникает подчас совершенно справедливое нежелание переводить сакральные тексты на другие языки. Если вас интересует настоящая традиция, будьте любезны выучить язык, на котором она сформулирована. Любой перевод будет выхолащиванием или, как минимум, видоизменением знания. Формула «творческое воображение» заставляет людей тихо дремать, и чтобы вернуть людей к пробужденной напряженности, энергийности идеи i'imagnation creatrice, надо сделать усилие.
То, что Анри Корбен понимал под «метафизическим воображением», «метафизическим образом», имеет некоторое отношение к «тайной матери». Чтобы составить представление о «метафизическом воображении», необходимо предпринять экскурс в структуру человеческого мира, как его понимает Традиция.
В человеке существует пятерица внешних чувств, которая фиксирует тот мир, который развернут вне нас — внешний, актуальный, присутствующий мир. Наши органы чувств схватывают его параметры, звуковые, телесные, визуальные и другие. В человеческой структуре наличествует некая инстанция, которая обобщает эти данные. По-латински она называется sensorium. Трудно сказать наверняка, о чем именно идет речь.
В индуизме это называется манас (внутренняя сторона внешних «танматр»{2}), то есть та инстанция, которая отвечает за сбор и кодификацию импульсов, полученных из фиксации внешнего мира. Sensorium есть то, что предшествует чувствам и обобщает данные этих чувств.
Sensorium (орган интегрального чувствования) накапливает образы, складывает их в базу данных. То, чем оперирует sensorium, суть imago, то есть «образ». Образы проистекают из внешнего мира и складируются в определенном отсеке sensorium.
Теперь, что такое воображение? Воображение в Традиции делится на две части. Корбен предлагает называть их l'imaginal и l'imaginaire. Точных аналогов на русском языке придумать не удается. Условно, можно перевести l'imaginal как «активное воображение», а l'imaginaire как «пассивное воображение».
Что такое l'imaginaire («пассивное воображение»)? Это свободная рекомпозиция sensorium с помощью заложенных в него образов. Иными словами, днем мы созерцаем определенные картины, проживаем ситуации, совершаем действия, испытываем чувства. В дневном сознании мы кодифицируем их по рациональной сетке. Их образы откладываются в sensorium. Они присутствуют там в определенном порядке.
Когда sensorium освобожден от гнета внешних импрессий, когда он погружен в стихию сна, он начинает произвольно или в соответствии с какой-то странной логикой — про которую мы пока не станем говорить — с ними заниматься. Так возникают воображаемые миры. Эти воображаемые миры, картины, ситуации, общения, люди, существа обладают вторичным характером по сравнению с миром бодрствования. Это результат спонтанной манипуляции с данными, полученными из внешнего мира. «Пассивное воображение» иногда называется «фантазией». «Фантазия» (или «фантазм») визуализирует химерические состояния, полученные из рекомбинации образов внешнего происхождения. Мы воспринимаем поток реальности извне, он входит в нас, откладывается в sensorium, а потом, когда мы расслабляемся, закрываем двери вешних чувств или просто отвлекаемся от внешнего мира, начинает комбинировать свои элементы в странной последовательности — создавая l'imaginaire.
Над реальностью sensorium стоит реальность рассудочности, рассудка, который как бы управляет организацией бодрственного состояния, упорядочивая наборы данных, сосредоточенных в sensorium, но когда рассудок засыпает, этот набор данных выползает из своего хранилища и как бы движется по своей собственной хаотической траектории. Это — сфера фантазий.
В этом процессе задействованы следующие принципиальные
инстанции:
- органы восприятия внешнего мира,
- sensorium, который откладывает образы, пришедшие извне и работает с ними,
- рассудочный механизм, в бодрственном состоянии структурирующий содержимое sensorium.
Эти уровни есть у каждого человека, у каждого человека они функционируют — у кого лучше, у кого хуже.
С точки зрения духовной традиции, есть еще одна форма функционирования sensorium. Это — обратная сторона sensorium, она-то как раз и связана с «метафизикой образа» или с «метафизическим воображением». Ее Анри Корбен предлагает называть l'imaginal.
Эзотерическая антропология, учение о духовном измерении в человеке основаны на утверждении, что sensorium имеет еще одно измерение, кроме перечисленных. Это — обратная сторона того же синтетического органа, но обращена она не во внешний мир и не к сфере рассудка, а в некую особую, специфическую сторону, обратную одновременно и в отношении внешнего мира в отношении рассудка. Это измерение, эта ориентация в инициатических языках именуется «внутренним миром»- арабское батинийя, греческое эзотерика. Обращаясь в эту сторону, к внутреннему горизонту, sensorium отвлекается и от рассудочности и от восприятия внешних данных, и концентрируется на себе самом{3}, стремится заглянуть в уникальную область, в тайную сферу, которая находится нигде.
Шейх Аль-Ишрак, «мастер восточного познания», крупнейший исламский мистик Шихабоддин Яхья Сахраварди ввел такой термин для описания этой внутренней реальности: na-koja-abad, то есть «страна нигде», «нигде-страна», «нигде-город». Среднеазиатские города часто образуются таким образом — Ашхабад, Исламабад и т.д. Но есть еще и город Na-koja-abad, город, который не есть нигде, город, которого нет, no land. Это несуществующая, внепространственная страна, вход в которую начинается с обратной стороны sensorium.
Когда sensorium обращается прочь от внешних чувств, когда он избавляется от рассудочной кодификационной схемы и бросает взгляд куда-то в иное, внутрь себя, в колодец сердца, тогда открывается сфера метафизических образов. Эта сфера парадоксальна, потому что, с привычной точки зрения обычная метафизика рассматривается рассудком, а образы порождаются чувствами, они разведены: рассудок — с одной стороны, чувственные восприятия — с другой. Опыт метафизических образов, обращение sensorium во внутреннюю страну, которая находится нигде, предполагает совершенно иную конфигурацию.
В этой радикальной смене ориентации, в этом странном стремлении, в этом внезапном броске, в этом сломе привычных экзистенциальных, гносеологических и чувственных траекторий осуществляется уникальный процесс — метафизика начинает проявлять себя не через мутное зеркало рассудка, а непосредственно, с такой же ясностью, как проявляет себя органам чувств внешний мир. В таком опыте мир образов, конкретное восприятие реальности начинает развертываться (дрожать) не в отраженном режиме, но при активном волевом соучастии человеческой души в созидании того, что она воспринимает. Это и есть l'imaginal, «активное воображение», сфера, ответственная в человеческой структуре за производство метафизических образов. Здесь уже нельзя точно сказать, за что именно она ответственна — за производство или за отражение. В сфере обычного неинициатического опыта разделение функций довольно очевидно: чувственное восприятие отражает внешние импульсы, только отражает, и никогда не производит их, рассудок же производит определенные операции, например, математические или логические. В опыте метафизических образов, при обращении sensorium к вратам страны Na koja abad, к «городу без места», обе функции нераздельно слиты. Здесь трудно сказать, что порождает нечто, что воспроизводит нечто, что является отражением нечто, а что является исходным импульсом. Отсутствие делимости на субъект и объект восприятия, слитность активного и пассивного, способность воображения именно порождать новое, а не воспринимать имеющееся или оперировать с его разрозненными фрагментами в хаотическом режиме пассивной фантазии, «творящий» характер воображения, обнаруженный в самой его сердцевине и позволяющий создавать реальные миры из самого себя, — эта уникальная инстанция души является матрицей производства метафизических образов.
В исламском эзотеризме есть термин для описания этой реальности — аль-алам аль-мисаль, то есть, дословно, «мир воображения», но когда мы говорим «воображение», мы выходим опять из того оперативно инициатического контекста, на внимании к которому я настаиваю. Это арабское выражение, может быть, также следует оставить без перевода. Аль-алам аль-мисаль есть то же, что Авиценна в своих экстатических повестях описывал как «мир слияния двух океанов». В суфийском эзотеризме это называется «страной Хуркалья», вотчиной «пурпурного архангела», у которого два крыла — одно белое, другое пурпурное{4}.
Если словосочетание «тайная мать» вызывает у нас ассоциацию с метафизическим образом, то уместно спросить себя: не является ли термин «тайная мать» наиболее точным описанием матрицы sensorium, обращенного внутрь, к той инстанции души, которая ответственна за тайное порождение образов по ту сторону их предсказуемой механической циркуляции между импрессиями бодрствующего сознания и хаотической стихией «пассивного сна»?
«Тайная мать» не просто один из метафизических образов наряду с другими, это название для всей матрицы их порождающей. Видимо мысль об этой таинственной инстанции души, об этом специфическом векторе и предопределила название лекции.
Варианты неинициатической гносеологии
Различие между эзотеризмом и «неэзотеризмом» лежит в признании (или непризнании) самостоятельной онтологичности реальности аль-алам аль-мисаль, то есть мира «тайной матери», мира метафизических образов.
Есть две разновидности антропологии. Одна — экзотерическая. Она утверждает, что в человеческом устройстве такой реальности нет, что это — химера, что все воображение по своей природе пассивно, что мать бывает только явной, а тайна может соотноситься только с отцом.
Экзотерическая антропология признает статус реальности за внешним миром, чувственным опытом и рассудочными операциями. Из различных рекомбинаций этих планов складываются многообразные модели мира — как теологические и моралистические, так и материалистические и атеистические.
Два начала — рассудок и материальный мир являются при этом основополагающими, а чувственные восприятия служат аппаратом посредничества.
Рассудок, как только к нему обращаются, начинает производить сам из себя многочисленные ряды рационалистических заключений. Откройте «Критику чистого разума» Канта и вы увидите, как нервно реагирует автономный рассудок всякий раз, когда к нему напрямую обращаются... Он индуцируется и не может остановиться. Когда читаешь Канта, кажется, что его несет, он утверждает одну гносеологическую банальность за другой, впадает в раж, перечисляет все возможные банальности, производимые рассудком, завороженного непересекаемой чертой ноуменальности — т.е. мира чистого объекта. Мозг разогревается, разгоняется, как harddrive в компьютере, на экране сознания появляются все новые и новые ряды исчислений... Все, что попадает в зону внимания, обсчитывается, анализируется, и вместе с тем автономное движение свободного критического рассудка остается совершенно стерильным. Все сущностное, ноуменальное, остается по иную сторону экрана.
Рассудок с горечью понимает, что не может познать ничего за своим пределом, не может познать вещи в себе, не может изменить онтологию... От этого он свирепеет еще больше, надиктовывает новые и новые тома, захлестывая своей удалью, выпущенной и освобожденной от каких бы то ни было онтологических преград, неизбывно зияющую загадку объекта... Рассудок впадает в состояние «перегрева», как сегодняшний фондовый рынок в США. Рассудок выпускает потоки «деривативов», осуществляет фиктивные («портфельные») инвестиции своих дигитальных кодов в безбрежные смысловые поля культур и цивилизаций... И в горячечном возбуждении кажется, что человеческая жизнь, мировая история, ткань бытия отныне доступны и приватизированы, рассудок обегает контуры реальности по несколько раз кряду, но снова и снова возвращается к самому себе, к своей безысходной, стерильной, и бессмысленной, в последнем счете, суетности. Перегретый harddrive Канта доходит до неразрешимых антиномий, рубежей печали. Оттого, что движется очень быстро.
У последователей Канта движение рассудка движется по затухающей — нет ни начального энтузиазма, ни отчетливого трагизма. Многие его последователи сходят с дистанции — уклоняясь в иррационализм, философию языка, структурализм... Самые последовательные рационалисты — такие как Поппер или Хайек — вообще уходят от опасных граней радикальных аффирмаций, даже вполне рационалистических, и, чтобы спасти основной вектор рационализма, создают гимн фрагментарному мышлению, довольствуясь теми серыми обывательскими разрозненными логическими операциями, которые не несут в себе никакой опасности — настолько они очевидны и глупы. В итоге, бег рассудка замедляется, затухающие волны мышления, впадающего в тихий рассасывающийся сенильный маразм, выдается современным либерализмом за «высшее достижение». И на фоне «новых пророков» в лице широко улыбающихся теледикторов с куриными мозгами и мышиным кругозором, выступающих в качестве эталонов рассудочности, трагический (стерильный) интеллектуализм Канта смотрится как Кельнский собор на фоне Макдональдса (хотя архитектор тот же).
Это направление в неициатической философии делает упор на рассудок. Это развитие декартовского тезиса о «Cogito ergo sum». Не везде это делается последовательно и эксплицитно, но бытие в таком подходе сводится к «движению рассудка».
Декарт яснее других философов выделил эти два полюса чисто профанического подхода к миру. Он утверждал, что помимо мыслительного действия «cogito», la raison («рассудок») есть только l'etendu, протяженность, сфера объекта.
Если «рационалисты» выделяли в качестве приоритетной инстанции «рассудок», то появившиеся чуть позже «материалисты» признали первичность второго полюса — объектности, «протяженности», продуктом автономного движения которого является рассудок. К этой линии следует отнести английских неономиналистов, в частности, Локка, который выдвинул свою знаменитую теорию о человеке как о tabula rasa, «чистой доске», чье сознание формируется под воздействием импульсов внешнего мира. Важно подчеркнуть, что и рационализм и материализм имеют дело с картезианской реальностью, где обладающим собственным бытием признается один из этих полюсов, либо оба из них. Tertium здесь non datur.
Корбен вслед за исламскими эзотериками называет все эти разновидности онтологии, особенно свойственные Новому времени, «метафизическим идолопоклонством». Неважно, какой именно выбор в этих рамках сделает рассудок — признает ли, как сам Декарт, «бытие Бога» на основании рассудочных умозаключений, свяжет все бытие с материей, с объектом (как атеисты и материалисты) или останется в границах онтологического дуализма (как Кант). В любом случае речь идет о довольно произвольном утверждении рассудка, постулирующего как рациональную догму либо наличие, либо отсутствие высшего трансцендентного начала.
Все версии такого отношения к реальности имеют дело с миром, лишенным измерения «тайной матери». Все модели онтологии, которые считают, что «тайная мать» существует, расцениваются как «мистификации».
Нетварные миры энергий православного святого Григория Паламы, качество экстатических состояний (аль-макам) Аль-Халаджа или Сохраварди, интроспективные миры Меркабы каббалистов и их сефиротические каналы — все эти ключевые для эзотериков инстанции считаются продуктом разнузданного sensorium, результатом «дремы разума», гипертрофией аскетического визионерства. В декартовых системах координат у «тайной матери» нет ни объема, ни места. L'imaginal здесь отрицается как категория, есть только l'imaginaire. Воображение не может быть активным, оно только пассивно. Обратная сторона sensorium есть «бессодержательный тупик».
Здесь мы подошли к важнейшему для истории религии моменту: сакральное (священное) умирает не тогда, когда люди утверждают, что «Бога нет». Можно утверждать, что Бог есть, и в то же время отрицать сакральное. Настоящая десакрализация начинается отнюдь не с атеизма и не с формального утверждения отсутствия высшего трансцендентного начала. Настоящая десакрализация начинается тогда, когда утверждается, что нет «тайной матери».
Можно сказать и наоборот: настоящее сакральное начинается отнюдь не с утверждения Бога. Настоящее сакральное начинается с того, что есть «тайная мать». И, строго говоря, больше ничего нет. Точнее, все остальное может быть, а может и не быть. — Так говорит опыт живого контакта со стихией «тайной матери», это не догма, это прозрачная очевидность, рожденная терпким вкусом ее прямого присутствия.
Мирча Элиаде подробно описал сущность стихии сакрального, опыт интуиции сакрального в его чистой предтеологической, преддогматической, предмифологической форме.
Религиозный контекст безусловно влияет на последующее оформление опыта сакрального, помещает его в конкретное идейное, догматическое пространство, облекает в соответствующие формулы. Но изначальное соприкосновение с Na-koja-abad, «страной-нигде», расположенной вне пространства, не является следствием этого контекста, не проистекает из него. Такой опыт «тайной матери» либо есть, либо его нет. Причем он может нагрянуть внезапно — без пояснений, прелюдий, предварительных обещаний или гарантий.
Опыт «тайной матери» — это самый прямой из возможных опытов. Это — единственный опыт, который дает нам яркое представление о том, что такое стихия или пространство эзотеризма.
Тот, кто не знает этого опыта, кто не способен пережить практически различие между областью l'imaginaire и l'imaginal, активного и пассивного воображения, тот не компетентен выносить мало-мальски ценные суждения относительно истории религии. Не проделав этого фундаментального различия, не пережив опытно контакта с «тайной матерью» как с неким самодовлеющим и самоочевидным фактом, рассуждать о мистике, эзотеризме, истории религии и т.д. бессмысленно.
Мы подошли вплотную к теме женского начала в метафизической традиции.
Мифология, религия, Традиция насыщены сюжетами, связанными с женским началом, начиная с целого пантеона богинь в политеистических культах и кончая священными персонажами монотеистических религий. Эти женские фигуры играют в сакральных учениях очень важную роль. Причем эта роль возрастает по мере того, как мы углубляемся в мистические и эзотерические аспекты духовных традиций. Если мужское начало и преобладает в формальных догмах, то женские темы характерны для большинства инициатических культов.
Сделаем теперь радикальное обобщающее утверждение: все без исключения женские персонажи, которые всплывают в сакральном контексте Традиции, — в культах, догматах, мифах и так далее, — описывают различные аспекты «тайной матери». Они отсылают нас реальности, ответственной за производство «метафизических образов», проявляющей себя сквозь них.
Когда мы говорим о «тайной матери», мы говорим не просто о многомерных возможностях опытного переживания метафизики, мы говорим также о самооткровении того глубинного антропологического и онтологического механизма, который не только повествует нам о метафизике вообще, как о чем-то отдельном и внеположном, но через повествование о метафизике дает представление в первую очередь о самом себе. В этом корень парадоксальных, подчас антиномистских, контррациональных, а-рациональных мотивов и сочетаний во всех сюжетах, связанных с «тайной матерью».
«Тайная мать» не просто делает открытыми вещи, которые без этого оставались бы скрытыми, она не просто порождает то, чего ранее не существовало, но открывая и созидая все это, она открывает и созидает саму себя. И вместе с тем, что бы она из себя ни исторгала, она всегда открывает, порождает, обнаруживает и воплощает иное, нежели она сама.
В «тайной матери» наличествует тонкое и нерасчленимое тождество одного и другого, «этого» и «того», «здесь» и «там»; тождество, которое настойчиво прорывалось сквозь бредовые формулы сна, с которых я начал данную лекцию.
Как только мы сталкиваемся с женским персонажем в сакральной традиции, мы можем заключить, что имеем дело с эзотеризмом. Все, что связано с эзотеризмом, находится под знаком женщины. Все, что связано с промежуточным миром «трансцендентального опыта», имеет явные гинекократические черты. Именно потому, что лишь «тайная мать» способна не просто описать или отразить зеркально сферу метафизических принципов, разворачивающихся на недоступной трансцендентной высоте, но актуализировать, воплотить их в себе, дать опытное знание метафизики, которое, оставаясь в пространстве чисто мужского восприятия, обречено на то, чтобы оставаться знанием чисто внешним. Мужской гнозис — это всегда лишь приближение, лишь намерение, лишь пожелание, лишь стремление к ускользающему пределу.
Мужское начало в метафизике стремится к определенным трансцендентным реальностям, женское начало в метафизике — «тайная мать» — реализует и достигает то, к чему стремится мужское начало.
Если мы возьмем креационистские традиции, мы увидим, что все они имеют явно мужскую патерналистскую ориентацию. Главные действующие персонажи основных сюжетов — мужчины, религиозная психология — психология фаллоцентрическая, мужская. Мужчины видят мир в контексте религиозных доктрин по-мужски. Авраамические традиции связаны с канонизацией мужского, а не женского отношения к реальности. Эта канонизация мужского отношения к миру, взятого в качестве парадигмы, образца влияет на структурализацию сакрального. Сакральность в авраамических традициях поэтому подчеркнуто рациональна.
Само представление о «догме» развилось в авраамизме, там же появились первые признаки и моральных, и рассудочных догматов. Догма берется как рассудочный императив, оторванный от любых форм опыта, и сам опыт в таком отношении принижается, лишается доказательной силы.
Если рассмотрим генеалогию «современного мира», современной секулярной реальности, то исток найдем, безусловно, в креационистских, авраамических традициях — в иудейской, исламской и христианской (особенно католической){5}. Как только мужская логика возобладала в сфере сакрального, «тайная мать» была изгнана или принижена, создались предпосылки, которые привели много позже к той десакрализированной, обескровленной реальности (где вещь тождественна сама себе, где «а» равно «а»), с которой мы имеем дело в профаническом мире и «новом мировом порядке».
Однако, в креационистском, авраамическом контексте всегда наличествовала иная компенсаторная линия — то, что можно назвать «авраамическим эзотеризмом». Эта линия прямо противоположна той, которая вела к усилению десакрализации и автономизации рационализма. Именно она многие века препятствовала окончательной дегенерации креационизма в секулярном ключе.
Как только мы открывали книгу авраамического ззотеризма, первое, с чем мы стакивались, было сияющее утверждение женского начала. Когда мы говорим об эзотеризме, мистическом учении, мы покидаем царство мужчин, с его логикой, расчетом, насилием, отчуждением и рационализмом, и вступаем в загадочное царство женщин.
С точки зрения каббалы, началом начал тайного знания является шекина, «божественное присутствие». Именно с опыта контакта с шекиной («божественным присутствием»), которая иногда описывается в образе анормально высокой и невыразимо печальной женщины, начинается путь иудаистического эзотеризма. Шекина самим своим онтологическим статусом нарушает логику строго иудаистского дуализма — Творец-творение (с одной стороны, Творец, с другой — творение, тварь).
В этот типичный для теологии иудаизма дуалистический комплекс (Творец-творение) внедряется новый — третий — элемент. Это — божественное присутствие, шекина. Это присутствие переводит раздвоенную реальность — конкретного мира и трансцендентного начала — в новое смешанное состояние. Это «имманентное трансцендентное». Этот парадокс представляет собой вызов всей иудейской креационистской онтологии.
Строгий иудаизм утверждает, что существует только «божественное отсутствие». Божественное присутствие — надмирно и внеопытно, принципиально трансцендентно. Те же каббалистические мистики, которые утверждают, что божественное присутствие и трансцендентно и имманентно одновременно, что оно, пребывая вне мира, находится одновременно и внутри него — в «святая святых» Иерусалимского храма, а позже в изгнании вместе с еврейским народом в четвертом галуте («рассеянии»), делают решительный шаг в сторону «тайной матери».
Шекина отождествляется иногда с десятой сефирой — малькут, то есть «царство» (это еврейское слово означает множественное число существительного женского рода, т.е. «царства»). Малькут — это принадлежность царя и вместе с тем присутствие Царя в женской ипостаси.
В исламской традиции существует прямой аналог шекины — сакина, тот же корень, что и в иврите. Шире, все, что связано в шиизме с дочерью пророка Моххамада Фатимой и с линией святых имамов, которые представляют собой имманентный эзотерический аспект ислама, сопряжено с женским началом.
Тема женского начала является центральной темой алхимической (герметической) традиции. Герметики считают высшим началом Natura Perfecta, Совершенную Природу. Есть природа «несовершенная», воспринимаемая внешними чувствами. Но существует еще и некий персональный ангел алхимика, тайное зеркало, его внутренняя спутница (паредра), которая находится по ту сторону от sensorium, изнутри. Она-то и называется Natura Perfecta, представляя собой не абстрактную категорию идеального мира, но очень конкретную инстанцию оперативного опыта; это и есть «тайная мать» герметизма. Она подлежит прямому прикосновению, прямому опыту. В трактате алхимика XIX века Cyliani «тайная мать» описана в образе «нимфы полярной звезды», которая приходит к герметическому лаборанту для того, чтобы передать ему изначальный импульс поиска и показать путь, дать нить Ариадны для путешествия в лабиринтах практики. Всякая духовная реализация начинается с контакта с этой инстанцией.
Во французском журнале «Elements» № 93 за 1998 год помещалось досье, посвященное феминизму — дословно, La Victoire des femmes. Оно очень показательно для нашей темы.
Читая резюмирующее описание отличий женской психологии от мужской, я поразился тому, что эта двойственная таблица как-то уж слишком явно походит на дуализм двух парадигмальных языков, которые мы приоритетно изучаем в Новом Университете. Причем основные черты женской психологии соответствуют архетипическому «языку Традиции», а мужской психологии — увы, «языку современности».
Из обзорной статьи Брижитт Даньель явствует, что «у девочек быстрее развивается речь, которая есть показатель духовности{6} и что косноязычие — типичный дефект, свойственный мускулинности»; что, обладая равным IQ с мужчинами, большинство женщин имеет средний показатель, тогда как у мужчин наоборот — большинство мужчин обладает интеллектом гораздо ниже среднего (т.е. попросту идиоты), тогда как редкие гении вынуждены компенсировать это анормальной переразвитостью ума (что бывает довольно тяжело); что девочки с самого раннего возраста больше интересуются людьми и животными, а мальчики — механическими предметами, и т.д.» Получается, что женщин интересует стихия жизни, а мужчин — искусственные конструкции, аппараты смерти и уничтожения. Далее, Брижитт Даньель уверяет, что «в основе психологии женщины — солидарность, сплавление с другими людьми и с миром, они открыты, приспособлены к социальным связям; мужчины же эгоистичны, интровертны, тяготеют к частной собственности, насилию и отчуждению элементов внешнего мира из контекста всеобщего в пользу индивидуума и т.д.». Женское сознание синтетично, глобально и конкретно, а мужчины, как пишет в том же журнале феминистка Люция Иригарэй, «предпочитают собственность жизни». Женщины крайне болезненно реагируют на нарушение космического равновесия, мужчины к этому безразличны, так как судьба целого их мало заботит.
Еще более определенно пишет Брижитт Даньель в следующем пассаже:
«Женщины предпочитают циклическое видение истории, мужчины линейное; мужчины мыслят в категориях Государства, женщины в категориях народа. Индивидуум — мужское; община, общность, холизм — женское».
Циклизм и холизм суть основные парадигмы «языка Традиции»; линейное время и доминация индивидуального, напротив, суть осевые концепции «языка современности».
Далее: «отношение к телу и телесности у женщин — тотальное, пропитывающее. Тело, телесность воспринимается ими как нечто всеобщее, универсальное и вместе с тем как нечто надтелесное, психическое.»
Психизм в восприятии тела у женщин, равно, как и психизм их мышления обусловливают то обстоятельство, что акцент ставится именно на этой психичности — она первична и по отношению к рассудку и по отношению к телу. А еще точнее будет сказать, что женщина вообще не знает картезианского дуалистического мира — для нее нет отдельно рассудка и отдельно протяженности: она чувствует, следовательно, она существует. Тело женщины более умное, чем тело мужчины, а ее ум более телесен, чем у мужчин.
И самое важное: феномен материнства является уникальным — в нем женщина способна проживать синтетический симбиоз двух телесных существ в одном. Иной, ребенок, плод воспринимается здесь как естественное субстанциальное продолжение себя. Материнство — ни с чем не сравнимый урок истинного органического холизма. Ощутив, что иное может быть частью тебя, а ты — частью иного, женщины на практике убеждаются, что барьеры между существами и вещами не абсолютны, а следовательно, часть и целое взаимосвязаны органически и составляют в последнем счете живое единство.
В феноменологии женской психики мы увидели многие параллели с той инстанцией, которой мы посвятили эту лекцию — с матрицей активного воображения.
В этой связи стоит также вспомнить труды швейцарского ученого Бахофена, автора знаменитой в свое время книги «Mutterrecht», Материнское право. Бахофен серьезно повлиял на двух далеко не безразличных нам авторов — Юлиуса Эволу и Германа Вирта.
Бахофен утверждает, что патриархальной культуре предшествовала высокоразвитая матриархальная цивилизация, цивилизация матерей. Бахофен исследовал следы такого сакрального матриархата в средиземноморской культуре, считая, что это был расцвет гармоничной духовной традиции, предшествовавшей индоевропейским ордам, «бандитам с Востока», из глубин Азии, которые ее разрушили, поработив ее хранительниц. Бахофен прослеживает вездесущее присутствие элементов этой матриархальной цивилизации далее по всей Евразии, обнаруживая в ней протопласт ее культур. Это не только культ «великой матери», как считают сторонники «сезонной теории», утверждающие, что посезонный ритм сельскохозяйственного труда лежат в основе древнейших мифологий Евразии, но метафизическое почитание женского начала, в онтологическом и антропологическом смысле «тайной матери».
Герман Вирт, продолжавший линию Бахофена, отождествил «культуру матерей» с изначальной гиперборейской сакральностью. Он разработал теорию «нордического матриархата». С его точки зрения именно женщина является органической носительницей древнего восприятия мира как Божьего Проявления, носительницей не просто Weltanschauung («мировоззрения»), но Gottesweltanschauung («Божьего-мира-воззрение»).
Женщина является таким образом носительницей промежуточных реальностей между высоким и низким, а значит — носительницей китайского дао, поскольку именно в дао сливаются все противоположности. В дао нет ни верха, ни низа, ни большого, ни малого, ни «сейчас», ни «потом», ни «до», ни «после». В дао есть все и всегда, точно так же, как в женских сакральных цивилизациях, в центре которых стояли внутренние врата sensorium, обращенного на себя, где «метафизические образы» были главным и основным содержанием внешнего и внутреннего опыта. Тогда не существовало ни восприятия внешнего мира как только внешнего, ни автономной рациональности как самостоятельной внутренней инстанции. Между мыслью и миром не было принципиальной разницы. Мысль и мир вибрировали в едином ритме. Холистское, целостное восприятие бытия было главным свойством цивилизации матерей.
Любопытно также, что Вирт большое внимание уделяет часто встречающемуся в мифологии образу — «очень высоких женщин». Это напоминает нам шекину каббалистов. Вирт дает этой фигуре материалистическое объяснение: древние люди Севера (гиперборейская раса) были все очень высокие, и женщины — одного роста с мужчинами (и одинакового ума). Это правило нарушилось тогда, когда северяне стали спускаться к Югу, уничтожать в столкновениях южан, более низкого роста (гондваническая раса), и брать в жены их жен. Так постепенно низкорослые инородческие жены стали давать более низкое потомство, что особенно затрагивало самих женщин. Поэтому высокие женщины до сих пор остаются символами древней, палео-арктической, райской страны, когда женщины и мужчины были равны.
Но это нордическое равенство имеет мало общего с современным феминизмом, так как нынешний профанический феминизм требует уравнять женщину во всех отношениях с тем продуктом дегенерации, что представляет собой современный мужчина. Такое уравнение еще хуже, чем если бы оставить все, как есть. Более того, стремление женщин уподобиться современному мужчине означает ее стремление к десакрализации, к равенству по низшей границе, а не по высшей. Нордический феминизм прямо противоположен феминизму профаническому, он направлен на восстановление в женщине ее изначального достоинства — такого достоинства, которое должно повлечь за собой и возрождение высшего мужского начала. В царстве матерей, в северном матриархате мужчина никогда не был в том положении слабого эксплуатируемого порабощенного пола, в каком прозябали тысячелетиями патриархата женщины. Женщинам-правительницам, женщинам-жрицам никогда не приходило в голову отчуждать и уничижать мужчин. Последние были полноценными соучастниками нордических мистерий, «белыми сыновьями», носителями северного завета.
Метафизика Ишрака и явление логосных миров у Сохраварди
Для того, чтобы глубже понять тему, обратимся к теории
происхождения мира Сохраварди. Подробно этот предмет я
разбирал в ранней книге «Пути Абсолюта»{7}. В описанной мной картине были некоторые
отличия от модели, предлагаемой Рене Геноном в его
классических трудах{8}. Недавно я обнаружил, что вместе с тем,
теория, описанная в «Путях Абсолюта», имеет почти точный
аналог у Сохраварди в трактатах «Книга Табличек» и «Символ
веры философов»{9}.
Согласно
Сохраварди, первый этап появления космоса характеризуется
возникновением первологоса — по-арабски калама, то есть
«перо». Первологос возникает из абсолютной, трансцендентной
реальности или абсолютной необходимости{10}. Первологос, возникнув как первое проявление
Божества, получил возможность рефлексии и саморефлексии, (т.е.
выяснения того, откуда он взялся и что ему делать),
резюмируемых в трех парадигмах, которые, бесконечно повторяясь
на всех дальнейших уровнях космогенеза, образуют базовую
матрицу реальности.
Первологос, появившись из трансцендентной инстанции (необходимости), начинает задумываться о ней, догадываясь, что если он появился, то это кому-то и для чего-то было надо. А раз так, то факт его наличия является необходимым. И, следовательно, существует некая необходимая инстанция, предшествовавшая ему. Из этого вытекает, рассуждал первологос, что сам он является не просто самим собой, но выражением запредельной миссии, трансцендентного порождающего импульса.
Эта первая рефлексия логоса именуется «рефлексией о необходимости».
Рефлексия о необходимости является плодотворной и, как только первологос «правильно» об этой необходимости мыслит, он порождает второй логос, который в свою очередь задумывается о своем происхождении, и мысля о высшей необходимости, порождает третий логос и так далее вплоть до десятого логоса.
Вторая рефлексия логоса: логос думает о самом себе. Он подумал о себе и понял, что он может быть. Необходимость (мысль о ней — первая рефлексия), это то, что предшествовало логосу и вызвало его к жизни. А сам по себе он — возможность. Возможность предполагает возможность быть. Это вторая рефлексия логоса, рефлексия о возможном, то есть сознание самого себя, своего собственного логосного «я» как возможности.
В рефлексии о своей необходимости, логос обращается к высшему, иному, нежели он сам. Он думает об ином, о том, что породило его, вызвало к бытию. Мысль не об ином, но о самом себе — осознание собственной возможности. Когда логос осознает самого себя как возможность, он порождает душу мира.
Душа мира является живой возможностью. Это очень энергетическая, динамичная, силовая инстанция, которую индуизм называет шакти. Ее энергия заставляет мир вращаться и вибрировать. Мысль о необходимости статична, строга и суха, она ориентирована вертикально, трансцендентно. Мысль же логоса о самом себе порождает водоворот световых энергий, которые, искрясь, вращаются вокруг него, облаком ангелических орд, которые его сопровождают.
Вторая рефлексия логоса порождает вращающую душу — alma coeli.
Третья рефлексия логоса состоит в том, что его могло бы и не быть. Как миссия, задание и трансцендентный посыл логос необходим, но сам по себе он не необходим, поскольку необходимым может быть только одно — то, что его вызвало к жизни.
Это печальное, «теневое» размышление, пессимистическая рефлексия логоса о самом себе, догадка о том, что его могло бы и не быть, создает первотелесность. Исламская метафизика называет эту реальность — «сферой зодиакальных башен». Это черная, абсолютно черная первоинстанция, не разделенная ничем, не украшенная ни звездами, ни планетами, которая является материальным воплощением печальной рефлексии логоса.
Логос думает о себе самом (а не о своей необходимой причине) двояко: оптимистично (он есть, потому что он может быть) и пессимистично (в принципе, как самотождества, его могло бы и не быть и, видимо, когда-то не станет). «Мое самобытие тщетно, оно — суета сует», — печалится первологос, и порождает ночь зодиакальных башен.
Второй логос поступает точно так же, и так вплоть до десятого.
Второй логос, помыслив о своей необходимости, причине миссии (т.е. о первом логосе) порождает третий логос. Помыслив о себе самом оптимистично, он порождает вторую душу, а пессимистично — второе тело, на сей раз это мир Зодиака или мир со звездами, звездные сидерические тела. Вторая душа вращает созвездия, это тонкая жизнь их ритма.
Третий логос производит третью душу, душу Сатурна и телесную сферу Сатурна. Далее идут души и сферы Юпитера, Марса, Солнца, Венеры, Меркурия и Луны.
Десятый логос достигает дна проявления. Бросив взгляд наверх и наблюдая высшую иерархию девяти логосов, он (в смятении) порождает на сей раз не одиннадцатый логос, а снопы световых лучей. Эти лучи, по Сохраварди, суть человеческие души. Это оптимистичная сторона рефлексии десятого логоса, следствия мысли о том, что его бытие возможно.
Мысль о том, что все не так замечательно, и что его могло бы и не быть, порождает сферу четырех элементов, то есть ту инстанцию, из которой состоит внешний для нас мир. Души молниеносно движутся, вращают субстанции элементов и также размышляют о десятом логосе, десятом калама, как о своем предназначении, о своей необходимости, о своей миссии, своей причине.
Итак, все, что происходит на уровне первологоса, повторяется на уровне десятого логоса и ниже, на уровне человеческой души.
Все человечество представляет собой не что иное, как рассеянный в массах одиннадцатый логос, задача которого состоит в том, чтобы собраться воедино и начать процесс возврата. Когда нижняя граница удаления достигнута, начинается великое возвращение.
Когда ангелы человечества осознают, что пора собирать души вместе, оно начинает двигаться в обратном направлении.
Человеческая саморефлексия, движение человеческого разума имеет те же три типологические ориентации.
Человек может думать о том, кем он создан, какова его миссия, его причина, его цель? Это мысль о десятом логосе.
Думая о том, что он возможен, он радуется о душе, он изливает энергию, вращается потоками чувств, творит ткань своего экспансивного бытия.
Думая о своей конечности, тщете, суетности, душа человека порождает тяжесть внешнего бытия, остывающую энтропийную ткань предметности. Мысль о смерти рождает смерть, потому что каждый из нас почти уже мертв.
Можно соотнести эти рефлексии логоса с философскими категориями. Первая рефлексия соответствует необходимости, вторая — возможности, третья — действительности.
«Тайная мать» в этом логосном ряду Сохраварди соответствует второй рефлексии.
Логос, оптимистически думающий о самом себе, порождает то, что называется anima coeli («небесная душа»).
Сфера возможного, промежуточной реальности между верхней необходимостью и низшей актуальностью, является приоритетной областью «тайной матери». Сам термин душа (в латыни — anima, в немецком — die Seele)- женского рода. (Дух — мужского, душа — женского, тело — среднего родов){11}.
Саморефлексия логоса как возможности (то есть возможности быть) потенциально предполагает, с одной стороны, необходимость быть, а с другой стороны, возможность не быть. Душа — это как раз та инстанция, которая сопрягает в себе три варианта: отождествление с высшим началом, динамическое круговращение, рассеяние в телесной пустыне. Телесная пустыня, остывающая, нечленораздельная бездна плоти сама ведет в регионы смерти — там вибрации души иссякают. То, что является абсолютно актуальным, конкретным, неспособным к метаморфозам, мертво. Труп — это наиболее актуальный и конкретный продукт жизни.
Пока человек живет, он разный. Он растет, изменяется, движется, скачет, кусается. Когда он умирает, он успокаивается. И теряет свое потенциальное измерение. Его бытие как возможность исчерпано. Вся возможность переходит в актуальность, а возможность не быть реализуется как экстремальная, последняя из всех возможностей.
Очень важно, что в некотором эмпирическом смысле именно душа — anima coeli (aut humana) — является той инстанцией, которая выбирает перспективу своей траектории — либо к необходимости (вертикаль духа), либо к актуальности (телесность и смерть). Душа, таким образом, является «тайной матерью» выбора.
Те, кто сталкиваются с этой инстанцией души, уходят от актуального и растворяются в потенциальном. Существование в потенциальном — это первый и самый важный этап инициации, потому что, только перейдя из актуального в потенциальное, от телесности к динамическому пульсу возможности, можно не только предвидеть, предвосхитить необходимость, но и реализовать ее, двигаясь в противоположном от актуальности направлении. Первая «стоянка» на пути к логосу — это столкновение с «великой матерью», с субстанцией души, которая и есть обратная сторона sensorium.
В книге «Метафизика Благой Вести»{12} я сделал одно очень важное, фундаментальное замечание. Мне кажется, оно проскользнуло мимо внимания читателей. Я иногда задумываюсь: кто же читает мои книги? Тиражи расходятся, а глаза людей не меняются. Это загадка. В моих книгах немало «заминированных» метафизических идей, которые, на первый взгляд, кажутся понятными, на второй — не очень понятными, а если вдуматься, то они совершенно революционны. Жить с ними крайне трудно... Лучше, конечно, их пропускать мимо внимания. Да, так лучше...
В этой книге я делаю следующее утверждение: в православной традиции в отличие от большинства других традиций существует довольно серьезное отступление в области инициатической антропологии. Суть его в следующем. -
В каждой традиции есть представление о «совершенном человеке». Есть обычный человек и есть «совершенный человек». «Совершенный человек» есть тот, кто полностью реализовал заложенный в нем метафизический потенциал.
Этот «совершенный человек» в исламской традиции называется аль-инсан аль-кабир, т.е. дословно «большой человек», «великий человек». В иудаистической традиции он называется адам кадмон, дословно, «древнейший человек».
В десятилогосной схеме Сохраварди «совершенный человек» есть «десятый логос», который является пределом духовного пути каждой человеческой души. У Сохраварди есть описание инициатической встречи с этой логосной иерархией. Посвященный приходит к тайным вратам. Это топос «тайной матери». Врата открываются и перед ним предстают десять старцев. Девять из них хранят молчание. Единственный, кто говорит, это десятый логос — отец рассеянных душ. Это и есть «совершенный человек». Он же выведен в образе «пурпурного архангела»{13}. Из его тайной субстанции соткан мир.
В одном из трактатов Сохраварди доказывает, что весь мир есть не что иное, как «шелест крыл архангела Гавриила»{14}. Один странник услышал в суфийской харчевне, как какой-то богохульник осуждал веру мусульман в ангелов, и взялся доказать ему, что ангелы не только существуют, но весь мир есть не что иное, как «шелест крыл ангела Гавриила». В результате доказательство удается блестяще.
Столкновение с архангелом Гавриилом, с пурпурным архангелом — это столкновение с «говорящим логосом». Когда адепт -протагонист инициатической истории — спрашивает: «а что же другие логосы? Говорят ли они что-либо? Заняты ли они богослужением или чем-то еще?», десятый логос отвечает: «нет, эти логосы абсолютно молчат». Они молчат. Но, наверное, молчат по-разному... Есть молчание девятого логоса, восьмого логоса, это разное молчание. Десятый логос обращается к адепту: «довольствуйся моими словами, я перевожу для тебя их молчание в слова, я рассказываю тебе, о чем молчит восьмой логос, о чем — четвертый, пятый...»
Интерпретация иерархии «молчаний» проецируется в человека, и познание ее, отождествление маленькой человеческой души с самим десятым логосом и есть процесс становления «совершенным человеком». В той степени, в какой человек перестает быть самим собой и отождествляется с пурпурным архангелом, он превращается из обычного «человека в совершенного».
В книге «Метафизика Благой Вести» я написал, что православная традиция является совершенно специфической, поскольку в ней архетипическим образом «совершенного человека» («великого человека») является женщина, дева, мать. Это Пресвятая владычица наша, Богородица.
Православие — единственная традиция, где говорится не о «совершенном мужчине»{15}, но о «совершенной женщине». Если перевести арабский термин «великий человек», аль-инсан аль-кабир на латынь, то мы получим homo maximus{16}.
В отличие от homo maximus большинства инициатических традиций, Православие утверждает иную концепцию — femina maxima, «великая женщина», «великая жена», дева, которая является архетипом «совершенного человека», реализовавшим всю метафизическую полноту человеческих возможностей.
Это очень принципиальный момент. Православие занимает особое место в среде религий авраамического происхождения. Более того, причислять Православие к разряду авраамических религий не совсем корректно{17}. Отношение к женскому началу в Православии — весьма показательно. Если классический авраамизм (в иудаизме и в исламе) является безусловно патриархальной формой традиции, то Православие гораздо более тонко и неоднозначно. Хотя в католицизме мы имеем иудео-христианскую, и в целом патриархальную версию, (где в полной мере наследуется креационистско-авраамическая линия), Православие решает тему «совершенного человека» несколько иначе.
Сам термин «христианство», впрочем, довольно двусмыслен, как бы странно это ни показалось на первый взгляд. Если понимать под христианством Православие, то в таком случае католицизм будет чем-то другим. Если под христианством понимать западные версии — католицизм и протестантизм, то в таком случае Православие нельзя будет назвать христианством. Это совершенно разные вещи.
Как бы то ни было, в Православии архетипом «совершенного человека» является femina maxima, Пресвятая Дева, которая и является образцом, архетипом человека. Парадигмой человека в Православии является женщина, а не мужчина. Именно женщина является «совершенным человеком».
Отсюда мы можем перейти к следующей теме. Если «максимальный гуманизм»{18} мы связали с инициатической теорией homo maximus, то напрашивается формула «максимального феминизма», вытекающего из образа femina maxima.
«Максимальный феминизм» имеет так же мало общего с обычным, «минимальным» феминизмом, как героический «максимальный гуманизм» Эволы или Маркса — с «минимальным гуманизмом» правозащитников. Максимальный гуманизм — это стремление человека преодолеть пределы человека, расширить границы вплоть до самых далеких онтологических горизонтов. Это восприятие человека как задания, императив реализации иного, нежели то, чем он является.
«Максимальный феминизм» может быть назван «сакральным феминизмом». И в таком случае, феноменология женской психологии, описанная в досье журнала «Elements», приобретает глубокое обоснование. Легко себе представить, как эта тема может развиваться в православном контексте.
Но эту разновидность инициатической антропологии мы встречаем не только в Православии. Нечто аналогичное наличествует и в индуизме, особенно в его тантрической версии, где высшей онтологической инстанцией считается реальность божественной шакти, богини, великой матери. Обычная для индуистских эзотериков мантра высшей идентичности — сохам, т.е. дословно «я есть он» или тат твама си, «я есть то» (в безличном аспекте, «то» есть абсолют, брахма) — в тантризме произносится иначе — сахам, т.е. «я есть она», имеется в виду отождествление с богиней. И снова апелляции именно к женскому началу в тантризме не случайно — тантризм является специфической формой индуистского эзотеризма{19}.
Если развивать тему «максимального феминизма» дальше, можно прийти к многим интересным выводам. Можно сказать, что в своем сакральном измерении человек является не столько мужчиной, сколько женщиной, поскольку там, где начинается топос «тайной матери», где происходит завязь метафизических образов, где пребывает страна, не имеющая места, Na-koja-abad, там вступает в свои права женское начало.
Можно ни с того ни с сего спросить себя: а что, собственно, мы понимаем под «человеком»? Ведь в этой лекции мы постоянно обращаемся к сакральной антропологии.
Я долго думал над этим определением: Что же такое человек в контексте Нового Университета? И я остановился на такой формуле, ни в коем случае не претендующей на окончательное решение человеческого вопроса. -
Человек — это неточное движение возможного.
У разных существ и предметов мира могут встречаться отдельные фрагменты этого определения. Есть неточность, есть движение, есть возможность... Но всего вместе ни у кого, кроме человека, нет.
Никто кроме человека не сопряжен с уникальной субстанцией, ускользающей от прямого восприятия, от рассудочного разложения, от строгой фиксации, — субстанцией «тайной матери».
Человек есть носитель «тайной матери».
Логосы и их аналоги пропитывают, пронизывают весь мир, но концентрируются они — как нечто наиважнейшее, влажное и интимное — в той матрице, которая выпрастывает из себя активное воображение, активное воображение человечества.
Эта инстанция имеет в себе некий эсхатологический и сотериологический аспект.
Напомню, что в Православии играет важную роль апокалиптический образ жены, одетой в солнце. Обычно женщина сопрягается с лунным началом. Солнечная женщина, жена, одетая в солнце, — это сияющее, неожиданное, триумфальное и эсхатологическое пришествие «тайной матери» в ее явном, кратофаническом аспекте. «Тайная мать» является «тайной», а значит, «скрытой», «ночной», «лунной». Но в определенной точке священной истории, когда процесс энтропийного рассеяния энергий бедных десяти логосов по миру достигает низшего предела, начинается великое собирание, великое восстановление... И уже в воздухе дуют ветры того, кого исламский эзотеризм называет кайим, «воскреситель». В этот момент «тайная мать» перестает быть тайной. Ее сокрытость становится открытой, причем открытой таким образом, что таинственность, секретность ее бытия не размельчается, не рассеивается, но, напротив, максимально концентрируется.
Именно в этом состоит смысл алхимической поговорки — «темное еще более, чем темное». Темное, непонятное надо познавать через еще более темное и непонятное. «Тайная мать» не становится явной, даже когда она приходит в виде жены, одетой в солнце. Она утверждается как нечто неизбывно, неснимаемо тайное, не могущее открыть себя при всем желании. Ее откровение — это лишь новая триумфальная, наивысшая форма ее сокрытия.
Человек, особенно человек, поставленный в эсхатологические условия, помещенный в сферу апокалиптической реальности, является не просто «неточным движением возможного», но, «неточным движением тайной матери», ведь «возможное» и есть «тайная мать».
Почему «неточное»? Потому что, если бы это было точное движение, то оно было бы подвластно рациональной фиксации, измерению, т.е. превратилось бы в «категорию», реальность, выставленную на обозрение, на созерцание, на холм. С этой реальностью можно было бы обращаться как с данностью. Неточность же ускользает от хватки рассудка. Идеальным выражением «неточного движения возможного», как функции «нового человека» может быть не только женщина. Может быть, как раз женщине это не очень-то и пристало. Носителями «максимального феминизма» вполне могут быть и мужчины.
Позволю предположить, что это «неточное движение возможного» направлено в сторону необходимого, хотя траектория этого движения никогда не может быть определена со всей достоверностью — как никогда нельзя быть уверенным, где конкретно находится город Na-koja-abad, обитель молчаливых логосов...
Примечания
{ 1 } «Творческое
воображение Ибн Араби». >>
{ 2 } Rene Guenon «L'homme et son devenir
selon Vedanta», Paris, 1972 А.Дугин «Пути Абсолюта» в
«Абсолютная Родина», М., 1998. >>
{ 3 } Надо заметить, что именно концентрация,
внутренняя ориентация существенно отличает структуру
l'imaginal от структуры l'imaginaire
(«фантазии»), которое неконцентрированно и
неориентированно. >>
{ 4 } Евгений Всеволодович Головин в лекции
«Пурпурная субстанция обмана» пролил свет на определенные
свойства этого второго крыла. См. также Ш.Я.Сохраварди
«Пурпурный Архангел» в книге «Конец Света», М, «Арктогея»,
1997. >>
{ 5 } Подробно об этом в предыдущих лекциях и
в кн.: А.Дугин «Эволюция парадигмальных оснований науки»,
М., 2002. >>
{ 6 } Красноречие как специфически женская
добродетель запечатлена в арабском фольклоре в сказках
«1001 ночи», которые рассказаны Шахерезадой. Вырождением
этой добродетели является женская болтливость. >>
{ 7 } См. кн. А.Дугин «Абсолютная Родина», М.,
1998. >>
{ 8 } R.Guenon «Le Regne de la Quantite et les
Signes des Temps», Paris, 1995, «La Grande Triade», Paris,
1995, «Les etats multiples de l'etre», Paris, 1984, «Le
Symbolisme de la Croix», Paris, 1996, «L'Homme et son
devenir selon le Vedanta», Paris, 1984. >>
{ 9 } Sohravardi «L'archange empourpre»,
Paris, 1976. >>
{ 10 } Именно в постулировании абсолютной
необходимости как высшей метафизической инстанции,
отличной от абсолютной возможности, состоит основное
несовпадение модели «Путей Абсолюта» с метафизической
картиной, описанной Р.Геноном. >>
{ 11 } Естественно, так обстоит дело не во
всех языках. Греческое слово pneuma, ивритское
ruah, «дух» — женского рода. >>
{ 12 } А.Дугин «Абсолютная Родина», указ. соч. >>
{ 13 } Sohravardi «L'archange empourpre»,
op.cit. >>
{ 14 } Ibidem. >>
{ 15 } О тождестве понятия «человек» и понятия
«муж», «мужчина» см. лекцию «Пол и субъект». >>
{ 16 } Сравни «максимальный гуманизм».
«Максимальный гуманизм» есть философское понятие,
описывающие те разновидности учения о человеке, которые
предполагают, что сущность «человеческого» заключается в
персонификации внеиндивидуальных (подчас внечеловеческих)
реальностей. «Максимальный гуманизм» может быть
«вертикальным» — в таком случае, «человек» считается
воплощением высших, сверхчеловеческих энергий, сущностей,
а может быть и «горизонтальным» — тогда он рассматривается
как продукт эволюции животных видов, результатом классовых
отношений, этнических, расовых или национально-культурных
программ. См. подробнее — «Русская Вещь», «Максимальный
Гуманизм», М., 2001. >>
{ 17 } См. «Метафизика Благой Вести», указ.
соч. >>
{ 18 } См. сноску (16). >>
{ 19 } См. «Конец Света», М.,1997 «Имманентная
революция тантры». >>